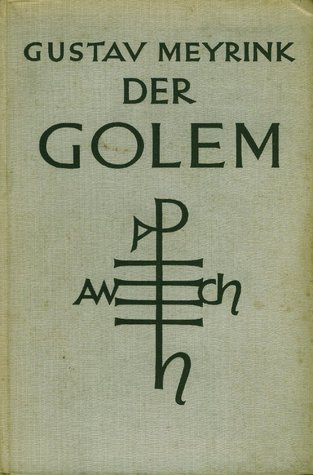
 Увеличить Увеличить |
XI. Нужда
За моим
окном бушевала снежная вьюга. Полками проносились снежные звездочки-солдатики в
белых пушистых плащах, один за другим, все мимо, целые минуты все в том же
направлении, словно в панике убегая от исключительно жестокого противника. Но
вдруг прекращали они свое бегство, впадали в ярость по непонятным причинам,
снова уносились назад, но сверху и снизу окружали их свежие вражеские армии, и
все вместе превращались в безнадежный вихрь.
Казалось
мне, что уже месяцы прошли после этих столь недавних и столь странных событий,
и не будь ежедневных, новых пестрых слухов о Големе, постоянно меня
волновавших, я мог бы в минуты сомнений заподоэрить, не сделался ли я жертвой
какого-нибудь душевного помрачения.
Из
пестрых арабесок, что рисовали вокруг меня события, выступало в кричащих
красках все то, что рассказал мне Цвак о загадочном убийстве, так называемого,
«масона».
Причастность
рябого Лойзы к этому делу представлялась мне неправдоподобной, хотя я не мог
освободиться от смутного подозрения: почти непосредственно вслед за тем, как в
ту ночь Прокопу послышался страшный крик из водостока, мы встретили юношу у
Лойзичек.
Да, в
сущности, и не было никаких оснований считать крик изпод земли, только,
вероятно, померещившийся мне, криком о помощи.
Снежный
вихрь ослепил меня, и все заплясало передо мной. Я снова направил свое внимание
на камею: лежавшую передо мною восковую модель, которую я вылепил с лица Мириам
лучше всего было перенести на голубоватый, блестящий лунный камень. Я
обрадовался: это было счастьем, что среди моих запасов нашелся такой подходящий
материал. Глубоко черные жилки роговой оболочки придавали камню подходящий
отблеск, а очертания были таковы, как будто природа сама пожелала навеки
закрепить тонкий профиль Мириам.
Сперва я
хотел вырезать из него камею с египетским богом Озирисом и с видением Гермафродита
из книги «Ibbur», так исключительно мне памятной, – к этому толкало меня
влечение художника. Но постепенно, едва я касался камня резцом, я замечал в нем
такое сходство с дочерью Шемайи Гиллеля, что я решил отказаться от
первоначального намерения…
Книга
«Ibbur»!!
В
волнении отодвинул я резец… Непостижимо, сколько произошло в моей жизни на протяжении
такого короткого промежутка времени. Точно внезапно перенесенвый в необозримую
пустыню, почувствовал я сразу глубокое, неимоверное одиночество, отделявшее
меня от людей.
Мог ли я
с кем бы то ни было из друзей, кроме Гиллеля, говорить о том, что я пережил?
Хотя в
тихие часы последних ночей ко мне вернулось воспоминание о невыразимой жажде
чудесного, лежащего по ту сторону бренного мира, о жажде чудесного, терзавшей
меня с самого раннего детства – однако, исполнение моей мечты налетело на меня
с внезапностью бури и яростно заглушило ликующий крик моей души.
Я
пугался минуты, когда приду в себя и почувствую все случившееся в его жгучей
реальности, как настоящее.
Только
бы не сейчас! Сперва испытать наслаждение видеть, как нисходит на меня невыразимое
сияние.
Это было
в моей власти! Надо было только войти в спальню, Открыть шкатулку, где лежала
книга «Ibbur», подарок невидимого существа.
Давно ли
коснулась ее моя рука, когда я клал туда письма Ангелины?!
Снаружи
слышится смутный гул, порывы ветра сбрасывают с крыш накопившиеся там снежные
глыбы. Потом глубокая тишина, снежный покров мостовой заглушает все звуки.
Я хотел
было продолжать работу, но вдруг – звон металлических подков внизу, на улице, с
летящими из-под них искрами.
Открыть
окно, чтобы посмотреть, было невозможно: морозные объятия льда скрепляли его
края твердым цементом, и стекла до половины были занесены снегом. Я видел
только, что Харусек, по-видимому, мирно стоял со старьевщиком Вассертрумом. Не
вели ли они между собой беседу? Я видел, как на их лицах обозначилось
изумление, как оно росло, и как они безмолвно уставились, очевидно, в экипаж,
только что прокативший мимо.
Это муж
Ангелины! – мелькнуло у меня в голове. Не могла же это быть она сама. В
своем экипаже появиться здесь, на Петушьей улице, у всех на глазах – это было
бы подлинным безумием. Но что сказать ее мужу, если это он, и если он станет
задавать мне вопросы?
Отрицать,
конечно, отрицать.
Я
поспешно стал сопоставлять возможности: это мог быть только ее муж; он получил
анонимное письмо от Вассертрума о том, что она была здесь на свидании. Она же
выдумала какую-нибудь отговорку, например, она заказала у меня камею или
что-нибудь в этом роде… Вдруг яростный стук в дверь – и передо мной Ангелина.
Она не
могла произнести ни слова, но по выражению ее лица я понял все: ей больше
незачем было скрываться. Песенка спета.
Но
что-то во мне протестовало против такого предположения, мне не хотелось
поверить, что я обманулся в своей надежде ей помочь.
Я подвел
ее к креслу. Молча гладил ее волосы, и она в изнеможении, как ребенок, спрятала
голову у меня на груди.
Мы
слушали треск горевших дров в печке и смотрели, как красный отблеск на полу
появлялся и угасал… появлялся и угасал… появлялся и угасал…
«А где
сердечко из коралла?..» – звучало во мне. Я встрепенулся: где я? Сколько
времени она уже сидит здесь?
И я стал
расспрашивать ее – осторожно, тихо, совсем тихо, чтобы не взволновать ее, чтоб
не коснуться терзавшей ее раны.
Отрывками
я разузнал все, что мне нужно было, и все это сложилось во мне, как мозаика.
– Ваш
муж знает?..
– Нет,
еще нет, он уехал.
Так что
стоит вопрос о жизни Савиоли – Харусек правильно разгадал. И именно потому, что
дело касалось жизни Савиоли, а не ее, она была здесь. Она больше не думает
скрывать что бы то ни было, решил я.
Вассертрум
был еще раз у Савиоли. Угрозами и силой добрался до его постели.
– А
дальше, дальше! Чего он хотел от него?
Чего он
хотел. Она наполовину угадала, наполовину узнала: он хотел, чтобы… он хотел,
чтобы доктор Савиоли покончил с собой.
Она
знала причину дикой, бессмысленной ненависти Вассертрума: доктор Савиоли
когда-то довел до самоубийства его сына, окулиста Вассори.
Молнией
мелькнула мысль: сбежать вниз, выдать все старьевщику, сказать ему, что удар
нанес Харусек, исподтишка, а не Савиоли, который был только орудием….
«Предательство! Предательство!» – шумело у меня в мозгу. – «Ты хочешь
обрушить месть этого негодяя на бедного чахоточного Харусека, который хотел
помочь тебе и ей». Меня разрывало на части. Затем спокойная, холодная, как лед,
мысль, продиктовала мне решение: «Дурак! Все, ведь, в твоих руках. Стоит только
взять напильник, там на столе, сбежать вниз и всадить его старьевщику в горло,
так, чтобы конец его вышел сзади у затылка».
Из
сердца рвался вопль благодарственной молитвы Богу…
Я снова
спрашивал:
– А
доктор Савиоли?
Он,
несомненно, наложит на себя руки, если она не спасет его.
Сестры
милосердия не спускают с него глаз, впрыснули ему морфий, но он может вдруг очнуться
– может быть, как раз вот теперь, и… и… нет, нет, нет, она должна идти, не
должна больше терять ни секунды. Она напишет мужу, признается во всем – пусть
он заберет у нее ребенка, но зато будет спасен Савиоли. Этим она вырвет из рук
Вассертрума его единственное имеющееся у него оружие, которым он угрожает.
Она сама
должна раскрыть тайну, прежде чем тот предаст ее.
– Этого
вы не сделаете, Ангелина! – вскрикнул я и подумал о напильнике. Больше
ничего я не мог выговорить от восторженной уверенности в своем могуществе.
Ангелина
намеревалась уйти; я настойчиво удерживал ее.
– Еще
одно только. Подумайте: неужели ваш муж поверит старьевщику так, на слово?
– У
него есть доказательства, по-видимому, мои письма, может быть, и портрет – все,
что было в письменном столе здесь, в ателье.
Письма?
Портрет? Письменный стол? – я уже не соображал, что я делаю. Я прижал
Ангелину к своей груди и целовал ее. В губы, в лоб, в глаза.
Ее
светлые волосы закрыли мне лицо золотой вуалью.
Затем я
взял ее за тонкие руки и в торопливых выражениях рассказал ей, что один смертельный
враг Вассертрума, бедный студент-чех извлек из стола все, что там было, все это
находится у меня в полной сохранности.
Она
бросилась мне на шею, смеясь и рыдая. Поцеловала меня. Бросилась к двери.
Вернулась и снова поцеловала меня.
Затем
исчезла.
Я стоял,
как оглушенный, и все еще чувствовал на лице дыхание ее уст.
Я
услышал шум колес по мостовой и бешеный галоп копыт. через минуту все стало
тихо. Как в гробу.
И во мне
тоже.
Вдруг у
меня за спиной скрипнула дверь – и в комнате стоял Харусек.
– Простите,
господин Пернат, я долго стучался, но вы, по-видимому, не слышали.
Я молча
кивнул головой.
– Надеюсь,
вы не думаете, что я помирился с Вассертрумом, хотя вы видели, как я с ним недавно
разговаривал? – (по насмешливой улыбке Харусека, я понял, что это только
злая шутка). – Вы должны знать: счастье улыбается мне, майстер Пернат, эта
каналья начинает ко мне привязываться. Странная это вещь – голос крови, –
тихо прибавил он как бы про себя.
Я не
понял, что он хотел этим сказать, и подумал, что мне что-то послышалось. Только
что испытанное волнение еще дрожало во мне.
– Он
хотел подарить мне пальто, – громко продолжал Харусек. – Я, конечно,
с благодарностью отказался. С меня хватит и собственной кожи… Кроме того, он
навязывал мне деньги.
«Вы
приняли?!» – едва не вырвалось у меня, но я быстро прикусил язык.
На щеках
студента появились круглые красные пятна.
– Это,
разумеется, я принял.
У меня
помутилось в голове.
– При-няли? –
пробормотал я.
– Я
никогда не думал, что человек может испытать такую совершенную радость! –
(Харусек остановился на минуту и скорчил гримасу). – Разве это не высокое
наслаждение видеть, как в мироздании заботливо и мудро распоряжаются
попечительные персты Провидения? (Он говорил, как пастор, побрякивая деньгами в
кармане). Воистину я считаю высоким долгом вознести на вершины благородства
Сокровище, вверенное мне милостивой рукой.
Что он –
пьян? Или помешался?
Вдруг
Харусек переменил тон.
– Какая
дьявольская ирония в том, что Вассертрум сам заплатил за свое лекарство. Вы не
согласны?
Я стал
смутно подозревать, что скрывается за словами Харусека, и мне сделалось жутко
от его лихорадочных глаз.
– Впрочем,
оставим это пока, майетер Пернат. Закончим пока текущие дела. Эта дама ведь – она?
Как это ей пришло в голову открыто приехать сюда?
Я
рассказал Харусеку, что случилось.
– Вассертрум,
безусловно, не располагает никакими уликами, – радостно перебил он
меня, – иначе он не стал бы сегодня утром снова шарить в ателье. Странно,
что вы не слышали этого. Целый час он был там наверху.
Я
удивился, откуда он все так точно знает, и не скрыл этого от него.
– Разрешите? –
он взял со стола папироску, закурил и стал объяснять. – Видите ли, если вы
сейчас откроете дверь, то сквозной ветер, дующий в коридоре, понесет туда
табачный дым. Это, пожалуй, единственный закон природы, в точности известный
господину Вассертруму. На всякий случай он в стене ателье, выходящей на
улицу, – вы знаете ведь, что дом принадлежит ему, – сделал маленькую
незаметную отдушину, что-то вроде вентиляции, а там красный флажок. Когда
кто-нибудь входит или выходит из комнаты, открывает дверь, Вассертрум видит это
снизу по колебанию лоскутка. Разумеется, знаю об этом и я, – сухо
продолжал Харусек, – когда мне нужно, я отлично могу наблюдать за этим из
погреба напротив, где милостивая судьба благосклонно отвела мне помещение.
Милая шутка с вентиляцией, хотя и выдумка достойного патриарха, но и мне уже
известна несколько лет.
– Какая
у вас должна быть нечеловеческая ненависть к нему, что вы так караулите каждый
его шаг! И к тому же издавна, как вы говорите, – сказал я.
– Ненависть? –
Харусек судорожно улыбнулся. – Ненависть? Ненависть, этого недостаточно.
Слово, которое могло бы выразить мое чувство к нему, надо еще придумать. Да и
ненавижу я по существу не его. Я ненавижу его кровь. Вы понимаете? Я, как дикий
зверь, чую малейшую каплю такой крови в любом человеке… А это, – он
заскрежетал зубами, – это иногда случается в гетто. – От возбуждения
он был не в состоянии говорить дальше, он подбежал к окну и посмотрел вниз. Я
слышал, как он подавил приступ кашля. Мы оба некоторое время молчали.
– Да
что это такое? – вдруг встрепенулся он и поманил меня окну. – Скорей!
Нет ли у вас бинокля или чего-нибудь в этом роде?
Мы
осторожно из-за занавески смотрели вниз.
Глухонемой
Яромир стоял у входа в лавочку старьевщика и предлагал, насколько мы могли
понять из его жестов, Вассертруму купить какой-то маленький блестящий предмет,
который он, как бы пряча, держал в руках. Вассертрум набросился на него, как
ястреб, и унес вещицу в свою берлогу.
Потом он
снова появился смертельно бледный и схватил Яромира за ворот; завязалась жестокая
борьба. Вдруг Вассертрум выпустил его и как будто задумался. Он ожесточенно
грыз свою заячью губу. Бросил испытующий взгляд на нас и дружественно увлек
Яромира в свою лавку.
Мы ждали
добрых четверть часа; они, по-видимому, никак не могли заключить сделки.
Наконец,
глухонемой с довольной миной вышел оттуда и пошел своею дорогой.
– Что
вы скажете на это? – спросил я. – Как будто ничего особенного.
Очевидно, несчастный мальчик обращал в деньги какую-нибудь выпрошенную вещь.
Студент
ничего не ответил и молча вернулся к столу.
Очевидно,
и он не придал большого значения происшествию; после паузы он продолжал.
– Да.
Так я сказал, что ненавижу его кровь. Остановите меня, майстер Пернат,
если я снова начну горячиться. Я хочу оставаться хладнокровным. Я не должен так
расточать лучшие свои чувства. А то потом меня берет отрезвление. Человек с
чувством стыда должен говорить спокойно, не с пафосом, как проститутка, или –
или поэт. С тех пор, как мир стоит, никому бы не пришло в голову «ломать руки»
от горя, если бы актеры не присвоили этому жесту такого пластического характера.
Я понял,
что он намеренно говорит о чем попало, чтобы успокоиться.
Это,
однако, ему не удавалось. Он нервно бегал по комнате, хватал в руки
всевозможные вещи и рассеянно снова ставил их на свое место.
Затем
вдруг он снова оказался в разгаре своих рассуждений.
– Малейшее
непроизвольное движение выдает мне в человеке эту кровь. Я знаю детей, похожих
на него; они считаются его детьми, но они совсем другой породы. Здесь я не могу
обмануться. Долгие годы я не знал, что доктор Вассори его сын, но я, так
сказать, чуял это.
Еще
маленьким мальчиком, не подозревая того, какое отношение имеет ко мне Вассертрум, –
его испытующие глаза на мгновение остановились на мне, – и у меня уже был
этот дар. Меня топтали ногами, меня били, на моем теле не осталось места,
которое не знало бы, что такое ноющая боль, морили меня голодом и жаждой до
того, что я, почти обезумев, стал грызть землю, но никогда я не мог ненавидеть
моих мучителей. Я просто не мог. Во мне не было места для ненависти. Вы
понимаете? И все же мое существование было насквозь пропитано ею.
Никогда
Вассертрум не сделал мне ничего дурного, это значит, что он никогда не бил и
даже не ругал, когда я мальчишкой шатался здесь: я знаю это отлично, однако,
кипевшие во мне жажда мести и бешенство были направлены целиком на него. Только
на него!
Замечательно,
что я тем не менее даже ребенком не выкинул против него ни одной злой штуки.
Когда другие делали это, я отходил в сторону. Но я мог часами стоять в воротах
и, спрятавшись за дверью, не сводя глаз, смотреть на него сквозь щели, пока я
не ослеп от необъяснимой ярости.
Тогда,
вероятно, и пробудилось во мне то ясновидеине, которое рождается у меня всякий
раз, как я прихожу в соприкосновение с людьми, даже с предметами, имеющими с
ним связь. Тогда-то, по-видимому, бессознательно, я до тонкости изучил все его
движения: его манеру носить костюм, брать вещи, кашлять, пить и тысячу других
черточек. Все это настолько въелось мне в душу, что я по первому взгляду, и
совершенно безошибочно, могу во всем различить следы его личности.
Впоследствии
это обратилось почти в манию: я отбрасывал невинные вещи, только потому, что
меня мучила мысль: его рука, может быть, коснулась их, – другие, наоборот,
становились мне дороги, я любил их, как друзей, желавших ему зла.
Харусек
замолчал па минуту, я видел, как он бессмысленно смотрел в пространство. Его
пальцы механически вертели напильник, лежавший на столе.
– Когда
потом, благодаря нескольким сострадательным учителям, я начал изучать медицину
и философию, начал вообще учиться мыслить, я мало-помалу понял, что такое
ненависть.
Так
глубоко ненавидеть, как я, мы можем только то, что является частью нас самих.
И когда
я постепенно, шаг за шагом, узнал все: кем была моя мать… и… и кто она
теперь, – если, если она еще вообще жива, когда я узнал, что собственное
мое тело, – тут он отвернулся, чтоб я не видел его лица, – полно его
мерзкой кровью – ну, да, Пернат, почему бы вам не знать этого: он мой отец!
– тогда
я понял, ясно, где корень всего… Иногда я вижу таинственный смысл в том, что я
чахоточный и кашляю кровью: мое тело отвращается от всего, что исходит от него
и выбрасывает все это с омерзением.
Часто
ненависть моя сопровождала меня и в моих сновидениях, тешила меня картинами всевозможных
мук, предназначенных для него.
Но я
прогонял все эти образы: они оставляли меня неудовлетворенным.
Когда я
думаю о самом себе и с удивлением вижу, что в мире нет никого и ничего, что бы
я был в состоянии ненавидеть, или к чему я мог бы просто почувствовать
антипатию, – кроме него и его крови, меня охватывает отвратительное
чувство: я мог бы стать порядочным человеком. Но, к счастью, это не так. Я вам
сказал уже: во мне больше нет места ни для чего.
Не
подумайте только, что меня ожесточила печальная судьба (том, что он сделал с
моей матерью, я узнал только спустя много лет). Я пережил один радостный день,
который оставляет за собой все, что вообще доступно человеку. Я не знаю,
известно ли вам, что такое искреннее, подлинное, пламенное благочестие. Я тоже
не испытывал его до тех пор. Но вот, в тот день, когда Вассори покончил с
собой, я стоял у лавки и видел, как он принял известие. Он должен был
отнестись к этому известию тупо, как не искушенный игрою жизни человек. Целый
час стоял он безучастно, подняв слегка над зубами свою кроваво-красную заячью
губу… так… так… весь точно собранный внутрь… тут я почувствовал веяние
архангельских крыл.
Вы
знаете черную икону Божьей Матери в церкви? Перед ней я пал на колени, и
райская мгла окутала мою душу.
Харусек
стоял с мечтательными большими глазами, полными слез, и, глядя на него, я вспомнил
слова Гиллеля о непостижимости темного пути, которым идут братья, обреченные
смерти.
Харусек
продолжал.
– Внешние
обстоятельства, которые «создали» мою ненависть, если могут считаться оправданием
ее в глазах профессиональных судей, вероятно, вас не заинтересуют: факты кажутся
верстовыми столбами, но в сущности выеденного яйца не стоят. Они – только
назойливое хлопанье пробок от шампанского, лишь дуракам кажущееся самым
существенным в пирушке.
Вассертрум
всеми инфернальными средствами, которыми располагают подобные люди, заставил
мою мать подчиниться его воле, – а может быть, и гораздо хуже того. А
потом, – ну, да, – а потом он продал ее в дом терпимости… это не
трудно, если быть в дружеских отношениях с полицейскими комиссарами, – но
не потому, что она надоела ему, о нет! Я знаю тайные изгибы его сердца.
Он
продал ее в тот день, когда с ужасом убедился в том, как горячо он любил ее.
Такие, как он, поступают как будто бы нелепо, но всегда одинаково. В нем
пробуждается любостяжание всякий раз, как кто-нибудь приходит и покупает какую-нибудь
вещь в его лавочке, хотя бы за высокую цену: он чувствует только необходимость
отдать эту вещь. Понятие «иметь» для него самое дорогое, и если бы он был в
состоянии создать для себя идеал, то это было бы отвлеченное понятие
«обладания».
Вот и тут
это выросло в нем до гигантских размеров, до вершины тревоги: не быть больше
уверенным в самом себе, не что-нибудь хотеть дать во имя любви, а быть
обязанным дать, подозревать в себе присутствие чего-то невидимого, что
заключило в оковы волю или то, что он считает волей. Это было началом. То, что
последовало за этим, произошло автоматически. Так щука должна механически,
хочет или не хочет – схватить блестящий предмет, мимо которого она проплывает.
Продажа
моей матери была для Вассертрума естественным следствием. Она дала удовлетворение
всему, что оставалось от его дремлющих чувств: жажда денег и извращенной
радости самоистязания… Простите, майстер Пернат, – голос Харусека
зазвучал вдруг так твердо и сухо, что я испугался, – простите, что я до
ужаса рассудительно говорю об этом. Но когда посещаешь университет и имеешь
дело с такой массою книг, невольно путаешься в выражениях.
В угоду
ему я заставил себя улыбнуться, но внутри себя я отлично понимал, что он
борется со слезами.
Как-нибудь
я должен помочь ему, рассуждал я – по меньшей мере, попытаться облегчить его
тяжелую нужду, насколько это в моих силах. Я незаметно вынул из комода
последнюю оставшуюся у меня бумажку в сто гульденов и спрятал ее в карман.
– Когда
вам будет лучше житься, и вы будете практикующим врачом, вы узнаете, что такое
спокойствие, господин Харусек, – сказал я, чтобы придать разговору более
успокоительное направление. – Скоро ваш докторский экзамен?
– Очень
скоро. Я обязан сделать это для моих благодетелей. Смысла в этом никакого,
потому что дни мои сочтены.
Я хотел
сделать обычное возражение, что он смотрит слишком мрачно на дело, но он с
улыбкой отстранил мою попытку.
– Это
самое лучшее. Не велико удовольствие подражать комедиантам врачебного искусства
и, в конце концов, добыть себе дворянский титул в качестве дипломированного
отравителя колодцев. С другой стороны, – продолжал он с желчным
юмором, – жаль, что мне придется прекратить благословенную работу в
гетто. – Он взялся за шляпу.
– Но
я не буду вам мешать больше. Или поговорить еще по делу Савиоли? Мне кажется,
не стоит. Во всяком случае, дайте мне знать, если у вас будут какие-либо
новости. Лучше всего повесьте здесь у окна зеркало, как знак, что я должен
зайти к вам. Ко мне в погреб вы не заходите ни в коем случае. Иначе Вассертрум сразу
заподозрит, что у нас какие-то общие дела. Мне, между прочим, очень интересно
было бы знать, что он предпримет, узнав что у вас побывала дама. Скажите ему,
что она приносила вам драгоценную вещь для починки, а если он будет приставать,
оборвите разговор.
Мне все
не удавалось подсунуть Харусеку кредитный билет. Я взял с окна воск для модели
и сказал ему: – Пойдемте, я провожу вас по лестнице, Гиллель ждет меня, –
солгал я.
Он
удивился.
– Вы
подружились с ним?
– Немного.
Вы знаете его?.. Или, может быть, вы, – я невольно улыбнулся, – не
доверяете и ему?
– Боже
сохрани!
– Почему
вы это так решительно говорите?
Харусек
приостановился в раздумье.
– Сам
не знаю, почему, тут что-нибудь бессознательное: каждый раз, когда я встречаю
его на улице, мне хочется сойти с тротуара и броситься на колени, как перед
священником, несущим святые дары. Видите ли, майстер Пернат, это человек,
который каждым своим атомом являет полную противоположность Вассертруму. В
христианском квартале, так плохо всегда осведомленном, он слывет скупцом и
тайным миллионером; однако, он чрезвычайно беден.
Я
переспросил с испугом:
– Беден?
– Да,
возможно, что еще беднее меня. Слово «взять», я думаю, он знает только по
книгам. А когда он первого числа возвращается из ратуши, его обступают нищие
евреи, зная, что он любому из них сунет в руку все свое скудное жалование, чтоб
через два дня вместе со своей дочерью начать голодать. Старая талмудическая
легенда утверждает, что из двенадцати колен, десять проклятых, а два святых.
Если это так, то в нем два святых колена, а в Вассертруме все десять остальных,
вместе взятых. Вы никогда не замечали, как Вассертрум меняется в лице, когда он
встречается с Гиллелем? Это, скажу вам, очень интересно! Видите ли, такая
кровь не допускает смешения, дети явились бы на свет мертворожденными. И
это в предположении, что матери не умерли бы от ужаса до их рождения. Гиллель,
между прочим, единственный, кого Вассертрум остерегается, он бежит от него, как
от огня. Вероятно, потому, что Гиллель олицетворяет для него что-то непостижимое
и непонятное. Может быть, он подозревает в нем и каббалиста.
Мы
спускались по лестнице.
– А
вы думаете, что теперь существуют еще каббалисты и что, вообще, Каббала
что-нибудь представляет собой? – спросил я, напряженно ожидая ответа, но
он, по-видимому, не слышал вопроса.
Я
повторил его.
Он
быстро отвернулся и указал на дверь, сколоченную из крышек от ящиков.
– У
вас тут новые соседи, бедная еврейская семья: сумасшедший музыкант Нафталий Шафранек
с дочерью, зятем и внуками. Когда становится темно и Нафталий остается один с
маленькими девочками, его охватывает безумие: он привязывает их за руки друг к
другу, чтобы они не убежали, загоняет их в старый курятник и обучает их, как он
говорит, «пению», чтобы они могли со временем зарабатывать себе на жизнь. Он
обучает их сумасброднейшим песенкам с немецким текстом, всяким обрывкам,
удержанным его смутной памятью, прусским победным гимнам и многому другому в
этом роде.
Действительно,
из-за двери раздавались тихие звуки странной музыки. Смычок выводил необычайно
высоко и все в одном тоне мотив уличной песенки, и два тоненьких, как ниточка,
детких голоска подпевали:
«Фрау
Пик, Фрау Гок, Фрау Кло-но-тарщ, Вместе стояли, Мирно болтали…»
Это было
в равной степени безумно и комично, и я не мог удержаться от громкого смеха.
– Зять
Шафранека, – жена его продает стаканами огуречный рассол школьникам на
базаре, – бегает целый день по конторам, – раздраженно продолжал
Харусек, – и выпрашивает старые почтовые марки. Затем он их разбирает и,
если находит такие, на которых штемпель стоит только с краю, он кладет их одна
на другую и разрезает. Чистые половинки он склеивает и продает марки за новые.
Сперва дело его процветало и давало иногда чуть ли не целый гульден в день, но
в конце концов, об этом узнали крупные еврейские промышленники в Праге – и сами
занялись тем же. Они снимают сливки.
– Вы
бы помогали нуждающимся, Харусек, если бы вы имели деньги? – быстро
спросил я. Мы стояли у двери Гиллеля, и я постучался.
– Неужели
вы считаете меня таким дурным, что сомневаетесь в этом? – изумленно
ответил он.
Шаги
Мириам приближались, но я выжидал, пока она коснется ручки двери, и быстро
сунул кредитный билет ему в карман. – Нет, господин Харусек, я вас не
считаю таким, но вы должны были бы меня считать таким, если бы я не
сделал этого.
Прежде
чем он успел что-нибудь сказать, я пожал ему руку и затворил за собой дверь. Здороваясь
с Мириам, я прислушивался к тому, что он будет делать.
Он
секунду постоял, затем тихо зарыдал и стал медленно спускаться по лестнице
осторожными шагами. Как человек, который должен держаться за перила.
Я в
первый раз был днем у Гиллеля в комнате.
В ней не
было никаких украшений, как в тюрьме. Тщательно вычищенный и посыпанный белым
песком пол. Никакой мебели, кроме двух стульев, стола и комода. Деревянные
полки справа и слева по стенам.
Мириам
села против меня у стола, и я принялся за восковую модель.
– Нужно
иметь лицо перед собой, чтобы найти сходство? – робко спросила Мириам,
только для того, чтобы нарушить молчание.
Мы
старались не встречаться взглядами. Она не знала, куда девать свои глаза,
мучась стыдом за жалкую обстановку, а у меня горели щеки от раскаяния, что я ни
разу не позаботился узнать, чем живет она и ее отец.
Но
что-нибудь надо было ответить!
– Не
столько, чтобы уловить сходство, сколько для того, чтобы судить о том, верен ли
внутренний образ. – Произнося эти слова, я чувствовал, какой фальшью
звучали они.
– Долгие
годы я слепо следовал ложному принципу, будто необходимо изучать внешнюю
природу для того, чтобы творить художественное произведение. Только в ту ночь,
когда Гиллель разбудил меня, во мне открылось внутреннее зрение: истинное
созерцание с закрытыми глазами, исчезающее, как только они открываются, –
вот дар, которым хвалятся все художники, но в действительности недоступный и
одному из целого миллиона.
Как
решился я говорить о возможности проверять непогрешимое суждение внутреннего зрения
грубыми средствами глаз!
Мириам,
по-видимому, думала то же самое, судя по удивленному выражению ее лица.
– Вы
не должны понимать этого так буквально, – пытался я поправиться.
Она с
большим внимание следила, как я водил грифелем.
– Должно
быть, очень трудно перенести это потом в совершенной точности на камею.
– Это
механическая работа, или близкая к тому…
– Вы
покажете мне камею, когда она будет готова? – спросила она.
– Она
и предназначена для вас, Мириам.
– Нет,
нет, этого не надо… это… это… – я видел, как дрогнули ее руки.
– Даже
такой мелочи вы не хотите принять от меня? – быстро перебил я ее. – Я
бы хотел позволить себе сделать для вас большее.
Она
быстро отвернула лицо.
Что я
сказал! Я, очевидно, глубоко обидел ее. Это прозвучало намеком на ее бедность.
Мог ли я
исправить это? Не сделаю ли я еще хуже?
Я
попытался.
– Выслушайте
меня спокойно, Мириам. Прошу вас об этом. Я так обязан вашему отцу, – вы
представить себе этого не можете.
Она
неуверенно посмотрела на меня – очевидно не поняла.
– Да,
да, бесконечно многим. Больше, чем жизнью.
– За
то, что он вам тогда помог, когда вы были в обмороке? Это ведь так понятно.
Я
чувствовал: она не знает, какие нити связывают меня с ее отцом. Я осторожно
нащупывал, до каких пределов я могу идти, не выдавая секрета ее отца.
– Я
думаю, что духовная помощь важнее материальной. Я разумею помощь, вытекающую из
духовного влияния одного человека на другого. Вы понимаете, что я хочу сказать
этим, Мириам? Можно излечить человека не только физически, Мириам, но и
духовно.
– И
это?..
– Да,
и это ваш отец сделал со мной, – я схватил ее за руку. – Неужели вы
не понимаете, что у меня должна быть потребность доставить какую-нибудь
радость, если не ему, то по крайней мере близкому ему человеку? Имейте только
хоть немного доверия ко мне! Неужели у вас нет никакого желания, которое я мог
бы выполнить?
Она
покачала головой.
– Вы
думаете, я чувствую себя несчастной?
– О,
нет! Но, может быть, у вас бывают заботы, от которых я мог бы освободить вас?
Вы обязаны. Вы слышите? Вы обязаны разрешить мне разделить их с вами! Ведь вы
живете здесь оба в темной затерянной улице. Вы, конечно, должны. Ведь вы так
еще молоды, Мириам, и…
– Вы
ведь тоже живете здесь, господин Пернат, – перебила она, улыбаясь. –
Что вас приковывает к этому дому?
Я
остановился. Да, да, это верно. Почему я собственно жил здесь? Я не мог себе
объяснить этого. «Что приковывает тебя к этому дому?» – бессознательно повторял
я. Я не мог придумать никакого объяснения и на мгновение забыл, где я нахожусь.
Тут вдруг я очутился где-то высоко… в каком-то саду… в волшебном аромате
цветущей бузины… взглянул вниз на город…
– Я
дотронулась до раны. Я вам сделала больно? – издалека донесся до меня
голос Мириам.
Она
наклонилась надо мной и с беспокойной пытливостью смотрела мне в лицо.
Очевидно,
я долго сидел неподвижно, если так встревожил ее.
На миг
что-то заколебалось во мне, и вдруг вырвалось неудержимо, переполняя меня; я раскрыл
Мириам всю мою душу.
Я
рассказал ей, как старому близкому другу, с которым жил всю жизнь, от которого
нет никаких тайн, все, что со мной было, каким образом из слов Цвака я узнал,
что когда-то сходил с ума, потерял память прошлого, как в последнее время все
чаще и чаще во мне встают образы, корни которых гнездятся в далеких днях
прошлого, – как я боюсь момента, когда вдруг все объяснится и растерзает
мою душу.
Только
то, что я считал связанным с ее отцом, мои переживания в подземном лабиринте и
все последующее, я скрыл от нее.
Она
тесно прижалась ко мне и слушала, затаив дыхание, с глубоким участием,
доставлявшим мне невыразимое наслаждение.
Наконец-то
я нашел человека, которому я могу излить свою душу, когда одиночество слишком
давит меня. Правда, был здесь еще и Гиллель, но мне он казался заоблачным
существом, приходящим и исчезающим, как свет, неуловимый для меня.
Я сказал
это ей, и она поняла меня. Он представлялся таким же и ей, хотя и был ее отцом.
Он любил
ее бесконечно, и она отвечала ему тем же чувством… и все-таки между ними – какая-то
стеклянная стена, – призналась она мне. – Стена, которую я пробить не
могу. С тех пор, как я себя номню, всегда было так. Когда я ребенком видела его
во сне склонившимся над моей кроваткой, он всегда был в облачении первосвященника,
на груди золотая доска Моисея с двенадцатью камнями, от висков исходили голубые
светящиеся лучи. Я думаю, что его любовь такова, что она может пережить смерть,
и слишком велика, чтоб мы могли понять ее. Это говорила и моя мать, когда мы
тайком беседовали о нем. – Она вдруг встрепенулась и задрожала всем телом.
Я хотел вскочить, но она удержала меня. – Не беспокойтесь, это ничего.
Просто вспомнилось. Когда мама умерла, – только я одна знаю, как он любил
ее (я была тогда маленькой девочкой), – я думала, что не вынесу скорби. Я
побежала к нему, вцепилась в его сюртук и хотела кричать, но не могла, потому
что я вся оцепенела – и – и тут… у меня мороз пробегает по коже, когда я думаю
об этом… он с улыбкой посмотрел на меня, поцеловал в лоб и провел рукой по моим
глазам… И с этого мгновения, до сих пор, мучительная тоска по матери исчезла. Я
не могла пролить ни слезинки, когда ее хоронили. Сияющей дланью божьей казалось
мне солнце, стоявшее в небе, и я не понимала, почему люди плачут. Отец шел за
гробом рядом со мной, и всякий раз, как я поднимала к нему глаза, он тихо
улыбался, и я чувствовала, какой ужас пробегал по толпе, замечавшей это.
– И
вы счастливы, Мириам? Вполне счастливы? Вам не кажется ужасным сознание, что
ваш отец – существо, которое переросло все человечество? – тихо спросил я.
Мириам
радостно покачала головой.
– Я
живу, как в блаженном сне. Когда вы у меня раньше спросили, господин Пернат, не
имею ли я забот, и почему мы здесь живем, мне хотелось смеяться. Разве природа
прекрасна? Ну, вот, деревья зеленые, небо синее, но все это кажется мне гораздо
более прекрасным, когда я закрываю глаза. Так нужно ли мне сидеть на лугу,
чтобы видеть это?.. А немножко нужды… и… и голода? Это бесконечно возмещается
надеждой и ожиданием.
– Ожиданием? –
удивленно спросил я.
– Ожиданием
чуда. Знакомо ли вам это? Нет? Тогда вы совсем, совсем бедный человек. Так мало
людей это знают?! Видите ли, потому-то я никуда не хожу и ни с кем не
встречаюсь. У меня было когда-то несколько подруг – евреек, конечно, как я, но
мы никак не могли сговориться, – они меня не понимали, а я их. Когда я
говорила о чудесах, они сперва думали, что я шучу; потом, когда увидели, как
это для меня важно, и что я понимаю под чудесами не то, что немецкие ученые в
очках называют естественным произрастанием трав и тому подобным, но что-то
совсем противоположное, они готовы были считать меня сумасшедшей; но этому,
однако, противоречило то, что я ловко рассуждала, знала толк в еврейском и
арамейском языках, могла читать «таргумим» и «мидрашим»,[5] и многое другое. В конце
концов, они нашли слово, которое вообще ничего не выражает: они назвали меня
«сумасбродной».
Я
пыталась им объяснить, что для меня в Библии, как и в других священных книгах,
самое значительное, существеннейшее – чудо, и только чудо, а не предписания
морали и этики. Эти предписания являются скрытыми путями к чуду. Но они
возражали мне лишь общими местами, боясь откровенно признаться, что на почве
религии они верят только тому, что могло бы содержаться и в уложении
гражданских законов. Стоило им только услышать слово «чудо», как им уже
становилось не по себе.
Они
теряют почву под ногами, – говорили они.
Как
будто бы есть что-нибудь более прекрасное, чем потерять почву под ногами!
«Этот
мир существует только для того, чтобы мы думали о его гибели, – говорил
отец, – тогда, только тогда начнется действительная жизнь». Я не знаю, что
он подразумевал под словом «жизнь», но я чувствую иногда, что будет день, когда
я как бы «проснусь». Хотя и не могу себе представить, в каком состоянии. И
этому, думается мне, должны предшествовать чудеса.
«Ты
пережила уже какое-нибудь чудо, что ты постоянно ждешь его?» – часто спрашивали
меня подруги, и когда я говорила, что нет, они радовались и имели вид
победителей. Скажите, господин Пернат, в ы могли бы понять такие души? О том,
что я все же переживала чудеса, хоть и маленькие, совсем маленькие… –
глаза Мириам загорелись огоньками, – я им рассказывать не хотела…
Я
слышал, как ее голос захлебнулся в слезах радости.
– Но
вы поймете меня: часто, неделями, даже месяцами, – Мириам говорила совсем
тихо, – мы жили только чудом. Когда в доме не оставалось даже хлеба – ни
кусочка, я всегда знала: вот наступил час! И я сидела и ждала, пока у меня не
замирало дыхание от сердцебиения. И… и тогда меня внезапно куда-то тянуло, я
сбегала вниз, пробегала взад и вперед по улице – так быстро, как только могла,
чтобы успеть вернуться домой до прихода отца… И… и каждый раз я находила
деньги. Один раз больше, другой меньше, но всегда столько, что я могла купить
самое необходимое. Часто гульден лежал посреди улицы, я издали видела его
блеск, а люди наступали на него, проходили мимо и не замечали. Это делало меня
порою настолько самоуверенной, что я даже не сходила вниз, а, как ребенок,
искала здесь в кухне на полу, не упал ли с неба хлеб или деньги.
У меня в
голове мелькнула мысль, которой я не мог не улыбнуться.
Она
заметила.
– Не
смейтесь, господин Пернат, – произнесла она умоляющим голосом, –
верьте мне, я знаю, что эти чудеса будут умножаться и что когда-нибудь они…
Я
успокоил ее:
– Я
не смеюсь, Мириам. Как вы могли это подумать. Я бесконечно счастлив, что вы не
такая, как другие, которые ищут за каждым явлением обычной причины и недовольны
(мы в таких случаях говорим: слава Богу), если случится что-нибудь необычное.
Она
протянула мне руку.
– И
не правда ли, вы никогда больше не скажете, господин Пернат, что вы хотите мне
или нам помочь? Теперь, когда вы знаете, что сделав это, вы отняли бы у меня
возможность пережить чудо?
Я обещал
ей. Но мысленно сделал оговорку.
Открылась
дверь, и вошел Гиллель.
Мириам
обняла его, и он поздоровался со мной. Тепло и дружески, но опять холодное
«вы».
Казалось,
он устал или встревожен. Или я ошибался?
Может
быть, это показалось мне оттого, что в комнате было полутемно.
– Вы,
наверное, пришли, чтоб спросить у меня совета, – начал он, когда Мириам
оставила нас одних, – относительно дела той дамы?..
Удивившись,
я хотел перебить его. Но он не дал мне это сделать.
– Я
знаю это от студента Харусека. Я остановил его на улице, мне показалось, что он
сильно изменился. Он мне все рассказал. От переполненного сердца. И то, что вы
дали ему денег. – Гиллель смотрел на меня пронизывающим взглядом и странно
как-то подчеркивал каждое слово, но я не понял, чего он добивался.
– Конечно,
это прольет с неба несколько капель счастья… и… и… в… данном случае, это не
повредит, но… – он на секунду задумался, – но иногда этим создается
тяжелое страдание и для себя и для других. Вовсе не так легко оказывать помощь,
как вы думаете, милый друг. Так было бы очень легко спасти мир. Вы не согласны?
– А
вы разве не подаете нищим? И часто – все, что у вас имеется, Гиллель? –
спросил я.
Он,
улыбаясь, покачал головой.
– Мне
кажется, что вы вдруг сделались талмудистом, вы стали отвечать вопросом на
вопрос. Так трудно спорить…
Он
остановился, как будто ожидая возражения, но я снова не понял, к чему
собственно он клонит.
– Впрочем,
вернемся к теме, – продолжал он, изменив тон, – я не думаю, чтобы
той, о ком вы хлопочете, этой даме – грозила непосредственная опасность. Предоставьте
событиям идти своим чередом. Хотя и говорят, что «умный» забегает вперед, но
умнее тот, кажется мне, кто выжидает и готов ко всему. Может быть, случиться,
что Аарон Вассертрум и столкнется со мной – инициатива должна исходить от него,
я не сделаю ни шагу, он должен прийти сюда. К вам ли или ко мне, это
безразлично. Тогда я с ним буду говорить: его дело будет решить, следовать ли
моему совету или нет. Я умываю руки.
Я робко
пытался прочесть что-нибудь на его лице. Так холодно и так странно угрожающе он
никогда еще не говорил. Но в этих черных глубоких глазах зияла бездна.
«Точно
стеклянная стена между ним и нами», – вспомнились мне слова Мириам.
Мне
оставалось только без слов пожать ему руку и уйти.
Он
проводил меня до двери, и когда я поднялся по лестнице и обернулся, я увидел,
что он все еще стоит и дружески кивает мне головой. Совсем как человек, который
желал бы сказать еще что-нибудь, но не может.
|


