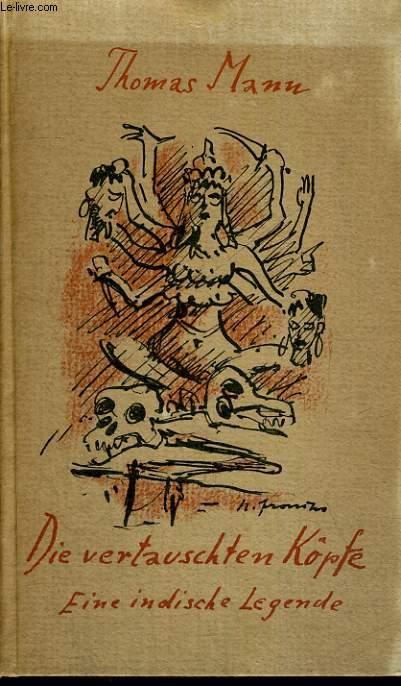
 Увеличить Увеличить |
VIII
Тут был ей голос из высей, и, несомненно, он мог
принадлежать только Дурга-Деви,[46] Неприкасаемой,
Кали Темной, Матери мира. Это был низкий, грубый, матерински решительный голос.
— Что это ты задумала, глупая
гусыня? — рек он. — Тебе, видно, мало, что кровь моих
сынов, по твоей вине, стекает в яму, ты еще хочешь изуродовать мое дерево и
превосходное мое порождение — твое тело — отдать на растерзание воронам вместе
с милым, сладостным, тепленьким зернышком, которое всходит в нем? Ты что,
индюшка, не приметила, что оно в тебя заложено и что ты с ношею от моего сына?
Ежели ты не умеешь считать до трех в этих наших делах, то сделай одолженье,
вешайся, да только не в моем дворе, а то будет похоже, что добрая жизнь
кончается в мире из-за твоей бестолковости. Мудрецы мне все уши прожужжали
глупыми своими домыслами, что человеческое бытие — это, мол, болезнь, ею
заражаются в любовном пылу, а значит, так передают и в другие поколения,
— а ты, дурища, устраиваешь мне здесь такие штуки! Вынимай голову из петли, не
то заработаешь оплеуху!
— Святая Матерь, — отвечала Сита,
— разумеется, я повинуюсь тебе. Я слышу твой громовый голос из-за облаков и
тотчас же прерываю дело, которое затеяла с отчаяния, раз ты повелеваешь. Одно
только должна я сказать себе в оправдание: напрасно ты считаешь, что я не
понимала своего положения и не заметила, что ты укрепила во мне росток и
благословила меня. Я только думала, что он будет теперь бледным, слепым,
несчастненьким.
— Ты уж, пожалуйста, предоставь мне печься об
этом! Во-первых, то, что ты говоришь, — глупое бабье суеверие, во-вторых,
в моей пастве должны быть и бледные, слепые, несчастненькие. Ты лучше
чистосердечно признайся, почему там, в храме, прилила ко мне кровь моих сынов,
они оба, каждый на свой лад, славные были ребята! Не скажу, что их кровь была
мне неприятна, но на некоторое время я еще охотно оставила бы ее течь в их
достойных жилах. Говори же! Да смотри, говори правду! Ты, надеюсь, понимаешь,
что от меня и так ничего не укроется.
— Они убили друг друга, святая Матерь, а меня
оставили сидеть и дожидаться. Впали в ярость из-за меня и одним и тем же мечом
отсекли…
— Вздор! Только баба может наболтать такую
ерунду! Они сами, в отважном своем благочестии, один вслед за другим, принесли
себя мне в жертву, вот тебе и весь сказ! Но почему они это сделали?
Прекрасная Сита разрыдалась и сквозь слезы начала
говорить:
— Ах, святая Матерь, я знаю и не запираюсь,
что виновата я, но что тут поделаешь? Такое уж стряслось несчастье,
неизбежное, — конечно, можно сказать, рок, если тебе не неприятно, что я
так выражаюсь (тут она всхлипнула несколько раз подряд), — это же была
беда, змеиный яд, что я превратилась в женщину из хитроумно запертой, ничего не
смыслящей девчонки, что мирно вкушала пищу у отцовского очага, прежде чем
познать мужчину, который ввел ее в твои дела. Ах, твое дитя словно объелось
бешеной вишни! Совсем, совсем оно переменилось! С той поры грех, в необоримой
своей сладости, стал владыкой его раскрывшегося чувства. Не то чтобы я хотела
вернуть эту резвую, хитроумную непочатость, которая была неведением, —
нет, этого я не хочу, да это и невозможно, даже на краткий миг. Я ведь не знала
этого человека в то время, не видела его, уж конечно нисколько о нем не думала,
и моя душа была свободна от него и от жаркого желания прознать его тайны, так
что я даже подшучивала над ним, а вообще-то смело и спокойно шла своей дорогой.
Юноша явился к нам, с плоским носом, черноглазый, дивного сложения, Нанда из
«Благоденствующих коров»; в праздник он качал меня на качелях до самого солнца,
и оно меня не жгло. От прикосновений воздуха мне было жарко, больше ни от чего,
и в знак благодарности я щелкнула его по носу. Потом он вернулся уже сватом
Шридамана, своего друга, после того как наши родители договорились. Тут уже все
было чуточку по-другому, — может, беда и коренится в тех днях, когда он
сватался от имени того, кто должен был меня обнять как супруг; но тот еще не
был здесь — только другой был.
Он был все время, перед свадьбой и во время свадьбы,
когда мы ходили вокруг костра, и потом тоже. Днем, разумеется, а не ночью,
ночью я спала с его другом, господином моим Шридаманом, и когда в брачную ночь
мы спознались, точно божественная чета на усыпанном цветами ложе, он отомкнул
меня своей мужскою силой, положил конец моему неведенью, потому что сделал меня
женщиной и отнял у меня лукавую холодность девичьих лет. О, это он сумел, да и
как же иначе, ведь он был твой сын и знал, как сделать радостным любовное
соитие; что я его любила, почитала и боялась — об этом и говорить не
приходится, — ах, святая Матерь, не такая уж я испорченная женщина, чтобы
не любить своего господина и супруга и тем паче не бояться и не почитать его
тонкую-претонкую, мудрую голову с мягкой такой бородой, точь-в-точь как его
глаза, и веки, и тело, на котором все это держится. Только я хоть и почитаю
его, а все время себя спрашиваю: да разве пристало ему сделать из меня женщину
и просветить мою бойкую холодность страшной и сладостной тяжестью чувств? Мне
все казалось, что не его это дело, что это его не достойно, низко для его
мудрости, и в брачные ночи, когда его плоть восставала, мне все казалось, что
для него это постыдно, унизительно для его высокомудрия — и в то же время срам
и унижение для меня, пробудившейся.
Вечная Матерь, так оно было, брани меня, покарай меня! Я,
твое созданье, в этот страшный час без утайки признаюсь тебе, как обстояли
дела, хоть знаю, что тебе и без того все открыто. Любовная страсть не подобала
Шридаману, моему благородному супругу, его голове и даже телу, которое в этих
делах — тут ты со мной согласишься — самое главное, совсем не подобало телу,
что сейчас столь ужасно разъединено с принадлежащей к нему головой. Он даже не
умел так сделать, чтобы я всем сердцем предалась любовному соитию; пробудить-то
он меня пробудил для своего вожделения, но моего не утолял. Умилостивься,
святая Матерь! Твое пробужденное создание больше вожделело, чем вкушало
счастье, и желание мое было сильнее утехи.
А днем, и вечером тоже, перед тем как идти спать, я
видела Нанду, козьеносого нашего друга. И не только видела, я на него смотрела,
как научили меня священные узы брака смотреть на мужчину, его испытывать; а
потом мне в душу закрался вопрос: сумеет ли он сделать так, чтобы мое сердце
билось при любовном соитии с ним, который и говорить-то не умеет так правильно,
как Шридаман, и еще, как совершится божественная встреча с этим, а не с другим?
Да, так думала о своем супруге я, несчастная, порочная, непочтительная! И еще
говорила себе: все одно и то же! Ну где уж Нанде! Он ведь только что приятный с
лица и на разговор, а твой господин и супруг — человек, можно сказать, высоких
достоинств, — так где уж тут отличиться Нанде? Но мне это не помогало;
вопрос о Нанде и мысль: как же под стать, без всякого стыда и унижения, будет
любовное соитие его голове и членам и что он, значит, и есть тот, кто установит
равновесие между моим счастьем и моей пробужденностью, — она, эта мысль,
засела мне в плоть и кровь, словно крючок в рыбью глотку, и о том, чтобы его
вытащить, нечего было и мечтать: ведь крючок-то был с закорючкой. Ну как мне
было вырвать из души и тела вопрос о Нанде, если он всегда был при нас?
Шридаман и он, хоть и совсем разные люди, никак не могли обойтись друг без
друга. Каждый день я его видела, а ночью воображала, что это он со мною рядом,
а не Шридаман. Когда я смотрела на его грудь, отмеченную «завитком счастливого
теленка», на узкие его бедра и совсем маленький зад (у меня-то ведь зад
большой, а у Шридамана чресла и зад как раз середка между мной и Нандой), я
делалась сама не своя. Когда его рука касалась меня, все волоски на моем теле
дыбом вставали от блаженства. Когда я воображала, как дивные ноги, на которых
он ходил, от колен до ступни поросшие черными волосами, обовьют меня в любовной
игре, у меня дух занимался и груди набухали от сладкой мечты. День ото дня
становился он мне милее, и я только дивилась прежней немыслимой своей
неразбуженности, когда он качал меня на качелях, и ни он сам, ни запах
горчичного масла, что источала его кожа, ничуть меня не трогали: как раджа
гандхарвов Читраратха,[47] являлся
он мне в неземном сиянии, как бог любви в своей красоте и юности, такой, что
голова шла кругом, весь в дивных украшениях, цветочных цепях, в благоухании и
любострастной прелести — Вишну, сошедший на землю в образе Кришны.
Потому, когда, бывало, Шридаман ночью прильнет ко мне, я
бледнела от горя, что это он, а не другой, и еще закрывала глаза, чтобы думать
— это Нанда меня обнимает. Иной раз ничего я не могла с собой поделать и в
любовном пылу бормотала имя того, кто должен был бы, будь на то моя воля,
распалять меня, так что Шридаман понимал: я прелюбодействую в нежных его
объятиях; ведь я, на свою беду, говорю во сне, и, конечно, его оскорбленному
слуху все стало ясно из моей болтовни. Я сужу по глубокой печали, которой он
предался, и еще по тому, что он меня оставил в покое, больше ко мне не
притрагивался. Нанда тоже ко мне не притрагивался — не потому, что его ко мне
не тянуло, — еще как тянуло, уж я-то знаю, и не позволю себе клеймить его
подозрением, что он не изо всех сил ко мне тянулся! Нерушимая верность другу —
вот почему он бежал искушения! И я, верь мне, вечная Матерь, — я, во
всяком случае, в это верю, — я тоже, если бы эта пытка наконец обернулась
попыткой, спровадила бы его из уважения к мудрой голове моего супруга. А так я
вообще осталась без мужчины, и мы, все трое, только и знали, что жить в
воздержании.
Вот при таких-то обстоятельствах, о Матерь всего сущего,
мы и тронулись в путь к моим родителям и, сбившись с дороги, набрели на твой
дом. На немножко, сказал Шридаман, зайдет он в храм, чтобы мимоездом воздать
тебе почести. Но в твоей подземной бойне, теснимый жизнью, совершил
наистрашнейшее и лишил свои члены достопочтенной головы, или, вернее, отнял
члены у высокомудрой своей головы, а меня вверг в унылое вдовство. Горе оттого,
что я от него отпала, да еще забота обо мне, преступнице, были причиной
страшного деяния. Ты уж прости мне, великая Матерь, правдивое слово: не тебе
принес он себя в жертву, а мне и другу, чтобы могли мы сполна вкусить любовных
радостей. А Нанда, который пошел его искать, не захотел иметь на совести эту
жертву и тоже отсек голову от своего кришноподобного тела, так что ничего оно
теперь не стоит. Но ничего — ровно ничего! — не стоит теперь и моя жизнь:
я тоже словно обезглавленная — без мужа, без друга. Наверно, я провинилась в
прошлой жизни и наказана этой бедой. И как же ты после всего этого удивляешься,
что я собралась положить конец моей нынешней жизни?
— Ты любопытная гусыня и больше ничего,
— рекла Матерь громовым заоблачным голосом. — Просто смешно, что ты со
своим любопытством вытворила из этого Нанды. С такими руками и на таких ногах
по земле бегают миллионы моих сыновей, а ты из него сотворила себе гандхарву! В
конце концов это даже трогательно, — добавил божественный голос уже
несколько мягче. — Я, Матерь, считаю, что любострастие, в сущности, трогательно
и что его очень уж возвеличили. Но порядок, конечно, должен быть! — И
голос вдруг опять сделался грубым и раскатистым. — Я есмь, конечно,
беспорядок, и именно потому должна со всей решительностью требовать порядка и
блюсти нерушимость брачного союза, это ты себе заруби на носу! Все ведь полетит
вверх тормашками, если я дам волю своему добродушию! Но вот тобой я очень
недовольна. Устраиваешь мне здесь фокус-покусы да еще говоришь дерзости. Ты
изволила заметить, что мои сыны не мне принесли себя в жертву, не затем, чтобы
ко мне прилила их кровь, а один, мол, тебе, второй же — первому. Что это еще за
тон? Пусть-ка попробовал бы человек отрубить себе голову — не горло перерезать,
а по-настоящему, как того требует жертвенный обряд, срезать себе голову с плеч
— вдобавок еще человек просвещенный, как твой Шридаман, который и в любви-то не
большой мастер, — если бы не было у него нужных для этого поступка силы и
неистовства, которые я в него влила! Посему я запрещаю тебе этот тон,
независимо от того, есть в твоих словах доля правды или нет. Ибо правда здесь
может значить, что их поступок был продиктован смешанными причинами, иными
словами: это темный поступок. Не только затем, чтобы снискать мою милость,
принес мой сын Шридаман себя мне в жертву, но еще с горя по тебе, может быть, и
не отдав себе в этом отчета. А жертва маленького Нанды явилась лишь неизбежным
следствием Шридаманова деяния. Потому я и не чувствую особой склонности принять
их кровь и взглянуть на все это как на жертву. Если я отменю эту двойную жертву
и все поставлю на свои места, могу я надеяться, что впредь ты будешь вести себя
прилично?
— Ах, святая и милая Матерь! —
вскричала Сита сквозь слезы. — Если ты можешь это совершить, можешь
обратить страшные события вспять, вернуть мне мужа и друга, так что все опять
будет по-старому, — как же я стану благословлять тебя, я даже во сне
сдержу свой язык, чтобы больше не огорчать благородного Шридамана! Словами не
скажешь, как я буду тебе благодарна, если ты это устроишь и все будет как было.
Потому что, если все и обернулось очень печально, так что я, когда стояла у
тебя между колен и смотрела на страшную картину, ясно поняла, что иначе это и
не могло кончиться, то как же было бы замечательно, если бы твоей мощи достало
на то, чтобы отменить такой конец, ведь в следующий раз все могло бы окончиться
куда благополучней.
— Что значит «достало», «устроишь»? —
отвечал божественный голос. — Надеюсь, ты не сомневаешься, что для моей
мощи это сущий пустяк? С тех пор как стоит свет, я не раз это доказывала. Хоть
ты этого и не заслуживаешь, но мне тебя жалко вместе со слепым и бледным
росточком в твоем лоне, и обоих юнцов вон там тоже жалко. Посему навостри-ка
уши и внимай тому, что я скажу! Придется тебе оставить эту лиану в покое и
вернуться в мое святилище, пред мой лик и к зрелищу, которое ты там устроила.
Там уж не изволь корчить из себя неженку и падать в обморок; ты возьмешь головы
за чуб и опять пристроишь их к злосчастным туловищам. Если ты при этом
благословишь надрезы жертвенным мечом, сверху вниз, и дважды произнесешь мое
имя — можешь называть меня Дурга, или Кали, или даже попросту Деви, это дела не
меняет, — то юнцы воскрешены. Ты меня поняла? Головы к телам подноси не
слишком быстро, несмотря на сильное притяжение, которое возникнет между головой
и туловищем, дабы у пролитой крови хватило времени хлынуть вспять и вновь
влиться в жилы. Это произойдет со сверхъестественной быстротою, но какое-то
мгновение потребуется и здесь. Ты, надеюсь, меня слышала? Ну, беги! Да смотри,
сделай свое дело аккуратно, а то заторопишься и неправильно приставишь головы,
и будут они оба ходить с лицом на затылке и народ смешить. Иди! Если прождешь
до завтра, будет поздно.
|


