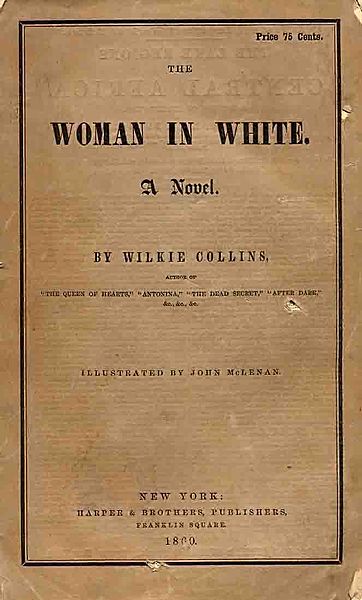
 Увеличить Увеличить |
Третий период
Рассказ продолжает
Уолтер Хартрайт
I
Я
открываю новую страницу. Я продолжаю мое повествование, пропуская целую неделю.
История
этой недели должна остаться нерассказанной. Когда я думаю о тех днях, сердце
мое сжимается, мысли путаются. А этого не должно быть, если я хочу вести дальше
за собой тех, кто читает эти страницы. Этого не должно быть, если я не хочу
выпустить из своих рук нить, которая проходит через эту запутанную, странную
историю.
Жизнь
внезапно изменилась и приобрела для меня новый смысл. Все житейские надежды и
опасения, борьба, интересы, жертвы – все мгновенно и навсегда устремилось
в одном направлении. Как будто неожиданный вид с вершины горы внезапно открылся
перед моим духовным взором. Я остановился на том, что произошло под тихой сенью
лиммериджского кладбища. Я продолжаю через неделю, среди шума и гама, сутолоки
и грохота одной из лондонских улиц. Улица находится в многолюдном и бедном
квартале. Нижний этаж одного из домов занят маленькой лавчонкой, где торгуют
газетами. Первый и второй этажи сдаются внаем, как меблированные комнаты самого
скромного разряда.
Я снял
их под чужой фамилией. На верхнем этаже живу я, у меня рабочая комната и комнатушка,
где я сплю. Этажом ниже, под той же чужой фамилией, живут две женщины, их считают
моими сестрами. Я зарабатываю свой хлеб тем, что делаю рисунки и гравюры на
дереве для дешевых журналов. Предполагается, что мои сестры помогают мне,
принимая заказы на вышивание. Наше бедное жилище, наша скромная профессия, наше
предполагаемое родство, чужая фамилия, под которой мы живем, – все это
средства для того, чтобы мы могли надежно спрятаться в дремучем лесу лондонских
трущоб. Мы уже не принадлежим к числу людей, живущих открыто и на виду. Я
неизвестный, незаметный человек. У меня нет ни покровителей, ни друзей, которые
могли бы помочь мне. Мэриан всего только моя старшая сестра, все хозяйственные
заботы лежат на ее плечах, она делает все по дому своими руками. В глазах
людей, знающих нас, мы двое – одновременно и жертвы и инициаторы дерзкого
надувательства. Ходят слухи, что мы сообщники сумасшедшей Анны Катерик,
претендующей на имя, положение, самую личность покойной леди Глайд.
Таково
наше положение. Таковы те новые обстоятельства, при которых мы все трое должны
впредь появляться в течение долгого времени на страницах этого повествования.
С точки
зрения рассудка и закона, в представлении родственников и знакомых, в соответствии
со всеми официальными обрядами цивилизованного общества «Лора, леди Глайд» была
похоронена рядом с матерью на кладбище в Лиммеридже. Вычеркнутая при жизни из
списка живых, дочь покойного Филиппа Фэрли и жена благополучно здравствующего
сэра Персиваля Глайда, баронета, была жива для своей сестры и меня, но для
всего остального мира ее не было, она умерла. Умерла для своего родного дяди,
который отказался от нее, умерла для слуг, не узнавших ее, для официальных лиц,
передавших ее состояние в руки ее мужа и тетки, для моей матушки и сестры,
считавших, что я введен в заблуждение, жестоко обманут искательницей
приключений и являюсь жертвой наглого мошенничества. В глазах общества и
закона, с точки зрения морали, социально, формально – она умерла. Но она
жила! Жила в бедности, в изгнании. Жила для того, чтобы безвестный учитель
рисования мог выиграть битву во имя ее и вернуть ей право снова числиться в
списках живых.
Когда ее
лицо предстало передо мной, не шевельнулось ли во мне подозрение, подкрепленное
тем, что мне лучше, чем кому бы то ни было, было известно о необыкновенном
сходстве между ней и Анной Катерик? Нет, ни тени подозрения, ни намека на
него – с той минуты, когда она откинула свою вуаль, стоя подле надгробной
надписи, гласившей о ее кончине.
Прежде
чем в тот день зашло солнце, прежде чем исчез из наших глаз ее дом, навсегда закрывший
перед ней двери, – прощальные слова, произнесенные мной при отъезде из
Лиммериджа, прозвучали вновь. Я повторил их – она их вспомнила. «Если
когда-нибудь настанет время, когда преданность всего моего сердца и все силы
мои смогут дать вам хоть минутное счастье или уберечь вас от минутного горя,
вспомните о бедном учителе рисования...» Она, помнившая так смутно тревогу и
ужас более позднего времени, вспомнила эти слова и доверчиво склонила свою
усталую головку на грудь человека, произнесшего их. В ту минуту, когда она
назвала меня по имени, когда она сказала: «Они старались заставить меня
позабыть обо всем, Уолтер, но я помню Мэриан и помню вас!» – в ту минуту
я, давно отдавший ей мою любовь, посвятил ей всю свою жизнь и возблагодарил
Бога, что могу это сделать. Да! Пробил час. За многие тысячи миль, через
дремучие, дикие леса, где гибли более крепкие и сильные, чем я, мои товарищи,
через смертельные опасности, трижды мне грозившие и трижды мной преодоленные,
рука, ведущая людей по темной дороге судьбы, вела меня к этому часу. Любовь,
которую я ей обещал, преданность всего моего сердца, все мои силы я мог теперь открыто
положить к ее ногам. Она была беспомощна и отвержена, прошла через страшное
испытание, красота ее поблекла, ум померк, у нее не осталось ничего, не
осталось даже места среди живых... По праву ее несчастья, по праву ее
одиночества она была наконец моей! Моей, чтобы поддержать ее, защитить,
утешить, воскресить. Моей, чтобы я любил и почитал ее, как отец, как брат.
Моей, чтобы восстановить ее в правах, жертвуя всем: моим добрым именем,
дружественными связями, рискуя собственной жизнью в неравной борьбе со знатными
и всесильными, в длительной борьбе с вооруженным до зубов Обманом, который пока
что торжествовал над Правдой.
II
Мое
положение описано, мои побуждения известны. Остается рассказать историю встречи
Лоры и Мэриан.
Расскажу
ее не со слов, часто бессвязных и непоследовательных, самих рассказчиц, но излагая
факты, ставшие мне известными. Я должен написать ясный и точный отчет о том,
что произошло с ними, как для самого себя, так и для моего поверенного, дабы
запутанный клубок событий был распутан наиболее быстро, вразумительно и точно.
История
Мэриан начинается там, где кончается рассказ домоправительницы. Домоправительница
рассказала Мэриан про отъезд леди Глайд из Блэкуотер-Парка и об
обстоятельствах, которые ему сопутствовали.
Несколько
дней спустя (сколько дней прошло, миссис Майклсон не могла вспомнить, так как в
то время ничего не записывала) было получено письмо от графини Фоско,
извещавшее о последовавшей в доме графа Фоско внезапной смерти леди Глайд. Даты
в письме не упоминались. Миссис Майклсон предоставлялось, на ее собственное
усмотрение, сразу же сообщить мисс Голкомб эту печальную весть или же
подождать, пока здоровье мисс Голкомб не окрепнет.
Посоветовавшись
с мистером Доусоном (который до этого по нездоровью не мог возобновить врачебное
наблюдение за мисс Голкомб), по его указаниям и в его присутствии миссис
Майклсон сообщила мисс Голкомб прискорбное известие в тот же день, как получила
письмо от графини, или днем позже. Не будем останавливаться на впечатлении,
которое произвело на Мэриан сообщение о внезапной смерти леди Глайд. Скажем
только, что она смогла уехать из Блэкуотер-Парка через три недели после этого.
В Лондон она поехала в сопровождении домоправительницы. Там они расстались, и
миссис Майклсон дала мисс Голкомб свой адрес на случай, если он в будущем
понадобится. Расставшись с домоправительницей, мисс Голкомб сейчас же отправилась
в юридическую контору Гилмора и Кирла посоветоваться с последним, так как сам
мистер Гилмор отсутствовал. Она сказала мистеру Кирлу о том, что считала
необходимым скрыть от всех (включая и домоправительницу миссис
Майклсон), – о своих подозрениях по поводу обстоятельств, при которых, как
ей объяснили, умерла леди Глайд.
Мистер
Кирл, ранее доказавший свою готовность дружески служить интересам мисс Голкомб,
поспешил навести справки всюду, где это было возможно. Он действовал осторожно,
так как учитывал щекотливый и опасный характер поручения, на него возложенного.
Чтобы
исчерпать эту тему, следует упомянуть, что граф Фоско любезнейшим образом откликнулся
на просьбу мистера Кирла сообщить ему подробности смерти леди Глайд, которые
желала знать мисс Голкомб.
Затем
мистер Кирл встретился с доктором Гудриком и двумя служанками графа Фоско.
Ввиду невозможности установить точную дату отъезда леди Глайд из Блэкуотер-Парка,
ввиду показаний доктора и служанок, а также добровольных объяснений графа Фоско
и его жены поверенный мистер Кирл пришел к заключению, что подозрения мисс
Голкомб ни на чем не основаны. Он решил, что горе, причиненное мисс Голкомб
потерей любимой сестры, серьезно нарушило ее душевное равновесие. Он написал
ей, что, по его мнению, подозрения, о которых она сообщила ему, не имеют под
собой решительно никакой почвы. На этом содействие компаньона мистера Гилмора
закончилось.
За это
время мисс Голкомб, вернувшись в Лиммеридж, собрала там все дополнительные
сведения, которые могла получить.
Первое
сообщение о смерти племянницы мистер Фэрли получил от своей сестры, мадам
Фоско, но и в этом письме никаких дат не упоминали. Он дал свое согласие на
предложение графини похоронить леди Глайд рядом с ее матерью на кладбище в
Лиммеридже. Сам граф Фоско сопровождал гроб с телом леди Глайд в Камберленд и
присутствовал на похоронах, имевших место 30 июля. Похороны были очень
многолюдными и пышными. За гробом в знак памяти и уважения шли все обитатели
деревни и окрестностей. На следующий день надгробная надпись (как
говорили – предварительно начертанная рукой родной тетки умершей леди) с
одобрения главы семьи, то есть мистера Фэрли, была выгравирована на памятнике,
стоявшем над могилой.
В день
похорон и на следующий день граф Фоско был гостем в Лиммеридже, но мистер Фэрли
не пожелал лично повидать его. Они обменялись письмами. Граф Фоско ознакомил мистера
Фэрли с подробностями болезни и смерти его племянницы. В его письме не было
даты, не было также никаких новых фактов, кроме уже известных. Но в приписке к
письму говорилось об одном весьма примечательном обстоятельстве. Дело касалось
Анны Катерик.
Содержание
приписки сводилось к следующему. Сначала мистера Фэрли уведомляли о том, что
Анну Катерик (о которой он мог подробно узнать от мисс Голкомб, когда та
приедет в Лиммеридж) выследили и нашли по соседству с Блэкуотер-Парком и
вторично водворили в психиатрическую лечебницу, откуда она когда-то бежала.
Затем мистера Фэрли предупреждали, что душевная болезнь Анны Катерик
обострилась, оттого что она долго пребывала на свободе без медицинской помощи,
и что ее безумная ненависть и подозрительность к сэру Персивалю Глайду (и ранее
бывшая одним из пунктов ее помешательства) приняла теперь новую форму.
Несчастная женщина была теперь во власти новой мании, связанной с сэром
Персивалем: она выдавала себя за его покойную жену, – очевидно, для того,
чтобы досадить ему и возвыситься в глазах окружавших ее больных и сиделок.
По-видимому, эта затея пришла ей в голову после того, как она добилась тайного
свидания с леди Глайд, во время которого она собственными глазами убедилась в
необыкновенном сходстве, существовавшем между умершей леди и ею. Возможность
вторичного ее побега из сумасшедшего дома была совершенно исключена, но, быть
может, она собиралась надоедать родственникам покойной леди Глайд
письмами – в таком случае мистера Фэрли заранее предупреждали, как
отнестись к этому.
Когда
мисс Голкомб приехала в Лиммеридж, ей показали эту приписку. Также отдали ей и
одежду, в которой леди Глайд уехала из Блэкуотер-Парка, вместе с другими
вещами, которые она привезла с собой в дом своей тетки. Мадам Фоско заботливо
переслала их в Камберленд.
Так
обстояли дела, когда в начале сентября мисс Голкомб приехала в Лиммеридж.
Вскоре
она опять слегла, болезнь ее повторилась, ослабевшие силы ее были подорваны тяжелым
душевным состоянием, какой-то внутренней неуверенностью, от которой она теперь
страдала. Через месяц, когда она поправилась, подозрения ее по поводу
обстоятельств, при которых умерла ее сестра, отнюдь не рассеялись. За этот
промежуток времени она не получала никаких известий от сэра Персиваля Глайда,
но до нее доходили письма мадам Фоско. Та очень внимательно и любезно
осведомлялась о ее здоровье от себя лично и от имени своего мужа. Вместо того
чтобы отвечать на эти письма, мисс Голкомб наняла частного сыщика для
наблюдения за домом в Сент-Джонз-Вуде и за его обитателями.
Но
ничего сомнительного обнаружено не было. Те же результаты дало и наблюдение за
миссис Рюбель. Она и ее муж приехали в Лондон за полгода до этого. Они прибыли
из Лиона и сняли дом около Лестер-сквер, чтобы сдавать меблированные комнаты
иностранцам, съезжавшимся в Лондон в большом количестве в связи со Всемирной
выставкой 1854 года. Ничего подозрительного об этой чете не было известно. Они
были скромными людьми, всегда платили свою ренту вовремя и вообще вели себя
вполне добропорядочно. Что касается сэра Персиваля Глайда, он обосновался в
Париже и спокойно проживал там в кругу друзей – англичан и французов.
Потерпев
всюду неудачу, но не успокоившись, мисс Голкомб решила тогда съездить в психиатрическую
лечебницу, где, как ей было известно, снова находилась Анна Катерик. Она и
раньше очень интересовалась этой женщиной. Теперь ее интерес к Анне Катерик
возрос. Во-первых, мисс Голкомб хотела убедиться, правда ли Анна выдает себя за
леди Глайд, во-вторых (если это было на самом деле так), мисс Голкомб хотелось
выяснить, почему это жалкое существо пытается ввести всех в заблуждение.
Хотя в
письме графа Фоско к мистеру Фэрли не указывался адрес лечебницы, это важное
препятствие не затруднило мисс Голкомб. Анна Катерик во время своего свидания
на кладбище в Лиммеридже с Уолтером Хартрайтом сказала ему, где находится ее
больница. Мисс Голкомб тогда же записала этот адрес в своем дневнике вместе с
другими подробностями этого свидания в точности так, как слышала о нем из
собственных уст Уолтера Хартрайта. Она просмотрела дневник, выписала адрес и,
взяв с собой вместо рекомендации, которая могла бы ей понадобиться, письмо
графа Фоско к мистеру Фэрли, отправилась одна в лечебницу.
В ночь
на одиннадцатое октября она прибыла в Лондон. Она намеревалась заночевать у
старой гувернантки леди Глайд. Но миссис Вэзи так разволновалась и расстроилась
при виде ближайшей подруги и сестры своей горячо любимой, недавно умершей
воспитанницы, что мисс Голкомб решила не оставаться у нее, а сняла на ночь
номер в одном почтенном отеле, рекомендованном ей замужней сестрой миссис Вэзи.
На следующее утро она поехала в лечебницу, находившуюся неподалеку от Лондона,
на севере от столицы. Ее немедленно провели к директору (он же владелец)
лечебницы для умалишенных.
Сначала
он, казалось, был решительно против того, чтобы она повидала его пациентку. Но
когда она показала ему приписку к письму графа Фоско и напомнила, что она та
самая мисс Голкомб, о которой там упоминалось, а кроме того, ближайшая
родственница покойной леди Глайд и по семейным причинам, естественно,
интересуется заблуждением Анны Катерик и присвоением ею имени своей умершей
сестры, тон и манеры директора лечебницы изменились и он больше ей не
препятствовал. Очевидно, он почувствовал, что при данных обстоятельствах отказ
его будет не только невежливым, но может вызвать сомнения в порядках лечебницы
и содержании его пациенток, и поэтому решил показать, что уважаемые посторонние
лица могут беспрепятственно посещать его учреждение.
У самой
мисс Голкомб создалось впечатление, что директор лечебницы отнюдь не был посвящен
в планы сэра Персиваля и графа Фоско. Доказательством этого было то, что он все
же согласился на ее свидание с Анной Катерик, а кроме того, охотно рассказал ей
о вторичном поступлении в лечебницу прежней его пациентки, чего, конечно, не
сделал бы, если бы был сообщником сэра Персиваля и графа. Он рассказал мисс
Голкомб, что Анну Катерик привез обратно к нему с необходимыми медицинскими
свидетельствами и документами сам граф Фоско 27 июля вместе с объяснительным
письмом и просьбой принять ее в лечебницу от сэра Персиваля. Принимая больную
обратно, директор лечебницы заметил в ней некоторую любопытную перемену. За
долгие годы своей профессии он знал, что с душевнобольными иногда такие
перемены бывают. Они могут чувствовать себя то хуже, то лучше. Соответственно с
этим их внутреннее состояние отражается на их внешности. Не удивила его и не
вызвала никакого подозрения также и новая мания Анны Катерик, вследствие
которой изменились ее манеры и речь. Но до сих пор ему иногда резко бросалась в
глаза некоторая разница между его пациенткой до того, как она убежала из
лечебницы, и той же пациенткой, когда ее привезли обратно. Разница была в мелочах,
трудно было передать ее словами. Он, конечно, не говорил, что она была теперь
другого роста или что у нее был другой цвет глаз, волос, кожи, другой овал
лица, – он скорее чувствовал, чем видел, какую-то перемену в ней. В общем,
случай был интересным с самого начала, а теперь временами был просто
загадочным.
Нельзя
сказать, чтоб разговор этот хотя бы частично подготовил мисс Голкомб к тому,
что за ним последовало. Однако он произвел на нее сильное впечатление. Она так
разволновалась, что ей пришлось подождать и несколько успокоиться, прежде чем
она смогла собраться с силами и проследовать за директором лечебницы в ту часть
здания, где находились больные.
Выяснилось,
что Анна Катерик совершает в это время прогулку в парке при лечебнице. Одна из
сиделок согласилась провести туда мисс Голкомб, а директор остался, чтобы
заняться одной из больных, обещав потом прийти в парк к мисс Голкомб.
Сиделка
провела мисс Голкомб в глубину красивого парка, а потом свернула на обрамленную
кустарником аллею, ведущую к группе деревьев. Навстречу им медленно шли
какие-то две женщины. Сиделка показала на них и сказала:
– Вот
Анна Катерик, мэм, в сопровождении служительницы, которая за ней смотрит. Служительница
ответит на все интересующие вас вопросы.
С этими
словами сиделка вернулась обратно в лечебницу, к своим непосредственным обязанностям.
Мисс
Голкомб и женщины шли друг другу навстречу. Когда между ними осталось всего
несколько шагов, одна из женщин остановилась, вгляделась в незнакомую даму,
вырвала руку от служительницы и бросилась в объятия мисс Голкомб. В этот миг
мисс Голкомб узнала свою сестру, узнала заживо погребенную...
По
счастью, никто, кроме служительницы, при этом не присутствовал. Служительница,
молодая женщина, была так изумлена происшедшим, что сначала не могла двинуться
с места. Когда она очнулась от изумления, ей пришлось оказать помощь мисс
Голкомб, которая упала в обморок от пережитого потрясения. По истечении нескольких
минут свежий воздух вернул мисс Голкомб прежние силы и энергию, и она поняла,
что должна сосредоточиться только на том, как помочь своей несчастной сестре.
Она добилась разрешения поговорить с больной наедине при условии, что они обе
все время будут на глазах у служительницы. Времени для расспросов не было, его
хватило только на то, чтобы убедить несчастную леди Глайд в необходимости
держать себя в руках и уверить ее в немедленной помощи, если она будет вести
себя так, чтобы не возбудить никаких подозрений. Надежда на то, что ей наконец
удастся покинуть лечебницу, если она будет беспрекословно слушаться указаний
своей сестры, была достаточной, чтобы успокоить леди Глайд и заставить ее
понять, как именно она должна себя вести. Вслед за этим мисс Голкомб вернулась
к служительнице, вложила ей в руку все деньги, которые были при ней – три
соверена, – спросила, когда и где она и служительница смогут поговорить
наедине.
Женщина
сначала была очень напугана и ничего не хотела слушать. Но когда мисс Голкомб
уверила ее, что хочет всего только задать ей несколько вопросов, чего не может
сделать сейчас, ибо слишком взволнована, и не имеет никакого намерения
совращать служительницу с пути истины и уговорить ее нарушить свой долг, та
взяла деньги и обещала встретиться с мисс Голкомб назавтра в три часа дня. Она
сможет уйти на полчаса, после того как больные пообедают, и будет ждать мисс
Голкомб в укромном месте, за высокой стеной, окружавшей парк и лечебницу. Мисс
Голкомб успела только согласиться на это и шепнуть своей сестре, что на следующий
день они увидятся, как к ним подошел директор лечебницы. Он заметил
взволнованность посетительницы, но она сослалась на то, что свидание с Анной
Катерик очень ее расстроило. Затем мисс Голкомб поспешила уйти как можно
скорее, вернее – как только нашла в себе достаточно сил, чтобы расстаться
со своей несчастной сестрой. Когда способность размышлять вернулась к ней, мисс
Голкомб поняла, что всякая попытка установить личность леди Глайд и освободить
ее из сумасшедшего дома законным путем приведет к промедлению, которое может
оказаться роковым для рассудка ее сестры, уже частично расстроенного тем
ужасным положением, в котором она находилась. К тому времени, когда мисс
Голкомб вернулась в Лондон, она твердо решила вызволить леди Глайд из
сумасшедшего дома с помощью служительницы. Она сейчас же отправилась к
биржевому маклеру и реализовала свое небольшое состояние, получив около семисот
фунтов наличными. Она была готова отдать все, что имела, за освобождение
сестры.
На
следующий день, взяв с собой все деньги, она поехала на назначенное ей свидание
за стенами лечебницы.
Служительница
уже ждала ее. После предварительных расспросов мисс Голкомб осторожно навела
разговор на нужную ей тему. Между прочим, служительница рассказала ей, что сиделка,
на попечении которой была прежняя, то есть настоящая, Анна Катерик, пострадала
из-за ее побега – хотя и была к нему совершенно непричастна, –
лишившись своего места. То же самое должно было случиться и с ней, если Анна
Катерик снова убежит. А она, то есть теперешняя служительница, крайне нуждалась
в своей работе по следующей причине: у нее был жених, и они откладывали день
свадьбы, пока не накопят достаточно денег, двести – триста фунтов, чтобы
открыть мелочную лавочку. Молодая женщина получала хорошее жалованье в
лечебнице, была очень экономна и надеялась года через два скопить нужную ей
сумму.
Тут-то
мисс Голкомб и решила переговорить со служительницей с полной откровенностью.
Она заявила, что мнимая Анна Катерик в действительности ее родственница, попавшая
в лечебницу по роковой случайности, и что служительница совершит доброе,
богоугодное дело, если поможет им. Прежде чем та успела возразить, мисс Голкомб
вынула из своего кошелька четыре бумажки по сто фунтов каждая и предложила их
этой женщине как вознаграждение за потерю службы в лечебнице.
Крайне
удивленная всем этим, служительница заколебалась. Она была очень встревожена.
Но мисс Голкомб настойчиво уговаривала ее.
– Вы
сделаете доброе дело, – повторяла она. – Вы поможете самой
обездоленной и несправедливо обиженной женщине на свете. Вот деньги на вашу
свадьбу – это ваше вознаграждение. Приведите сюда ко мне мою сестру, и эти
деньги будут в ваших руках.
– А
вы дадите мне письмо, удостоверяющее, откуда у меня деньги, чтобы я могла
показать его моему жениху, если он спросит, где я их достала? – спросила
служительница.
– Я
напишу и принесу с собой такое письмо, – отвечала мисс Голкомб.
– Тогда
я попробую, – сказала служительница.
– Когда?
– Завтра.
Они
поспешили условиться, что мисс Голкомб вернется завтра утром и будет ждать, спрятавшись
за деревьями и держась поближе к северной части стены. Назначить точный час
своего появления служительница не могла. Осторожность требовала, чтобы она не
торопилась, а действовала смотря по тому, как сложится обстановка. На этом они
расстались.
На
следующий день, около девяти часов утра, мисс Голкомб была в условленном месте
с обещанным письмом и деньгами. Она прождала почти полтора часа. Наконец
служительница торопливо вышла из-за угла, ведя за руку леди Глайд. Как только
они встретились, мисс Голкомб отдала служительнице деньги и письмо. Сестры
вновь были вместе. У служительницы явилась счастливая мысль надеть на леди
Глайд, из предосторожности, свой собственный капор, вуаль и платок. Мисс
Голкомб посоветовала служительнице, как лучше поступить, когда побег будет
обнаружен, чтобы розыски были предприняты в ложном направлении. Вернувшись в
лечебницу, служительница должна была во всеуслышание рассказать остальным
сиделкам, что последнее время Анна Катерик часто спрашивала о расстоянии от
Лондона до Хэмпшира. Дождавшись последней минуты перед тем, как побег Анны
Катерик будет неизбежно открыт, она должна была сама поднять тревогу и тем
самым отвести от себя подозрение в причастности к этому побегу. Директор
лечебницы, узнав, что Анна Катерик справлялась о Хэмпшире, по всей вероятности,
решит, что его пациентка, воображая себя леди Глайд, вернулась в
Блэкуотер-Парк. Поэтому искать ее сначала будут именно там.
Служительница
согласилась на это предложение. Оставаясь все время на глазах у других, она тем
самым доказывала свою непричастность к побегу, за который ей грозили
последствия, возможно, более серьезные, чем просто потеря места. Поэтому, не
мешкая больше, она вернулась в лечебницу, а мисс Голкомб повезла свою сестру в
Лондон. Днем им удалось беспрепятственно сесть на поезд, и в ту же ночь они
прибыли в Лиммеридж.
По
дороге, когда они остались одни в купе, мисс Голкомб удалось путем расспросов
связать в одно целое отрывки воспоминаний леди Глайд. Та сохранила очень
смутное и неясное представление о том, что с ней произошло, и рассказала свою
ужасную историю отрывочно, непоследовательно и бессвязно. Несмотря на это, мы
должны воспроизвести здесь ее рассказ, прежде чем опишем, что случилось на
следующий день в Лиммеридже. Воспоминания леди Глайд о событиях, последовавших
после ее отъезда из Блэкуотер-Парка, начинались с момента ее прибытия на вокзал
в Лондоне. Ей, конечно, не пришло в голову предварительно записать, какого
числа она выехала. Все надежды на уточнение этой важной даты с помощью леди
Глайд или миссис Майклсон были потеряны.
Когда
поезд подошел к платформе, леди Глайд увидела встречавшего ее графа Фоско. Как
только кондуктор открыл двери купе, граф очутился перед ней. Пассажиров было
больше, чем обычно, и поэтому получить багаж было довольно затруднительно.
Человек, сопровождавший графа Фоско, принес вещи леди Глайд. На чемоданах была
ее фамилия. Она уехала вместе с графом в карете, на которую в тот момент не
обратила внимания.
Покинув
вокзал, она прежде всего спросила графа о мисс Голкомб. Граф отвечал, что мисс
Голкомб еще не уехала в Камберленд, так как он отсоветовал ей пускаться в
дальний путь, пока она хорошенько не отдохнет.
Затем
леди Глайд спросила его, находится ли мисс Голкомб сейчас в его доме. Ответ его
она припоминала очень смутно, но отчетливо помнила, что граф уверял ее, что
везет ее к мисс Голкомб. Леди Глайд очень плохо знала Лондон и не могла
сказать, по каким улицам они тогда ехали. Но они не выезжали за город и не
проезжали ни парков, ни деревьев. Карета остановилась в каком-то переулке,
неподалеку от сквера, где было много магазинов и множество народа. Из этих
воспоминаний, в точности которых леди Глайд была уверена, было совершенно ясно,
что граф вез ее не в свою резиденцию в Сент-Джонз-Вуде.
Они вошли
в дом и поднялись наверх в заднюю комнату то ли на первом, то ли на втором
этаже. За леди Глайд внесли ее вещи. Двери им открыла служанка. Человек с
черной бородой, по виду иностранец, очень вежливо встретил их в холле и провел
наверх. В ответ на вопросы леди Глайд граф заявил, что мисс Голкомб находится в
этом же доме – ее немедленно известят о прибытии сестры. Он и иностранец
вышли из комнаты и оставили леди Глайд одну. Комната была очень бедно
обставлена и выходила окнами на задний двор.
В доме
было удивительно тихо, она не слышала шагов по лестнице, только откуда-то снизу
глухо доносились мужские голоса. Она оставалась одна непродолжительное время.
Граф вернулся и сказал, что мисс Голкомб легла отдохнуть и беспокоить ее сейчас
не следует. Он был в сопровождении какого-то человека, англичанина, которого он
попросил разрешения представить ей как своего друга. После этой неожиданной
просьбы он познакомил их, но, насколько она могла припомнить, не называя имен,
затем оставил леди Глайд одну с этим человеком. Тот был очень вежлив, но удивил
и смутил ее своими странными расспросами о ней самой и тем, что как-то очень
пристально ее разглядывал. Он пробыл с ней короткое время и ушел. Минуты через
две в комнату вошел другой незнакомец, тоже англичанин. И этот человек
представился ей в качестве друга графа Фоско и, со своей стороны, стал ее
разглядывать и задал ей несколько странных вопросов, ни разу, насколько она
могла припомнить, не назвав ее по имени. Затем он ушел. К этому времени она
была так напугана и так тревожилась за свою сестру, что решила сойти вниз и
обратиться за помощью к единственной женщине, которую видела в этом
доме, – к служанке, открывшей им входную дверь.
Но как
только она встала со стула, вошел граф. Она сейчас же взволнованно спросила
его, когда же наконец она увидит сестру. Сначала он уклонялся от прямого
ответа, а затем с видимой неохотой признался, что мисс Голкомб далеко не так
хорошо себя чувствует, как он ей раньше говорил. Его тон и манеры во время
этого разговора так испугали леди Глайд, вернее, так усилили тревогу, которую
она все время чувствовала, особенно после странной встречи с двумя незнакомцами,
что ей стало нехорошо, она попросила воды. Граф выглянул за дверь и приказал принести
стакан воды и флакон с нюхательной солью. Их принес человек с бородой. Вода,
которую попробовала выпить леди Глайд, была горьковатой на вкус. Ей стало хуже.
Она схватила флакон и понюхала. У нее закружилась голова. Граф подхватил
флакон, выпавший из ее рук, и последнее, что она помнила перед тем, как потеряла
сознание, – граф снова поднес флакон к ее лицу.
Дальше
ее воспоминания становились такими отрывочными и хаотичными, что разобраться в
этой путанице было очень трудно. Ей представлялось, что позднее вечером она
пришла в себя и уехала, как намеревалась еще в Блэкуотер-Парке, к миссис Вэзи.
Она напилась там чаю и провела ночь под крышей у миссис Вэзи. Она совершенно не
помнила, как, когда и с кем она покинула дом, в который ее привез граф Фоско,
но настойчиво твердила, что ночевала у миссис Вэзи. Самым удивительным было,
что, по ее словам, ей помогла раздеться и лечь в постель миссис Рюбель. О чем
они с миссис Вэзи разговаривали и кого еще она видела, помимо этой дамы, и
почему миссис Рюбель оказалась там, она совершенно не помнила.
Еще
более беспорядочными и неправдоподобными были ее воспоминания о том, что произошло
на следующее утро. Ей смутно припоминалось, что она куда-то поехала (в каком
часу это было, она сказать не могла) с графом Фоско и снова с миссис Рюбель в
качестве его помощницы. Но как и почему она рассталась с миссис Вэзи, она не
знала; не знала, в каком направлении ехала их карета, где они остановились и
были ли в это время граф и миссис Рюбель вместе с ней. На этом ее печальная
история заканчивалась. Дальше следовал полный провал памяти. У нее не осталось
никаких, даже туманных, воспоминаний, она совсем не представляла себе, много ли
дней прошло или всего один день, покуда вдруг она не очнулась в непонятном
месте, окруженная совершенно незнакомыми ей женщинами.
Это был
сумасшедший дом. Здесь она впервые услышала, как ее называют Анной Катерик.
Одна из любопытных подробностей этой истории состояла в том, что она своими
собственными глазами увидела на себе одежду Анны Катерик. В первую же ночь в
лечебнице служительница показала ей метки на ее белье и сказала добродушно:
– Посмотрите
на ваше собственное имя на этой одежде и перестаньте надоедать всем нам, что вы
леди Глайд. Она мертва и в могиле, а вы живы и здоровы. Взгляните сюда! Вот
ваша метка, вы найдете ее на всех своих старых вещах, которые мы сохранили:
«Анна Катерик» – черным по белому!
Эту
метку увидела и мисс Голкомб на белье своей сестры, когда они прибыли в Лиммеридж.
Эти
смутные, иногда противоречивые воспоминания леди Глайд были единственным ответом
на осторожные расспросы ее сестры по дороге в Камберленд. Мисс Голкомб
остерегалась спрашивать о том, что произошло в лечебнице. Она понимала, что
рассудок ее сестры не выдержал бы этого испытания. По добровольному признанию
директора лечебницы было известно, что она прибыла туда 27 июля. С этого числа
до 15 октября (день ее освобождения) она была под постоянным надзором, ей
систематически внушали, что она Анна Катерик, и категорически отрицали, что она
нормальный человек, искренне принимая ее за душевнобольную. Любой человек с
менее впечатлительной нервной системой, физически более крепкий и здоровый,
невыносимо страдал бы от такого тяжкого испытания. Никто не смог бы пройти
через все это и сохранить душевное равновесие.
Приехав
поздно вечером в Лиммеридж, мисс Голкомб мудро решила не предпринимать попыток
сразу же установить личность леди Глайд, а подождать до завтра.
Наутро
она первым долгом отправилась к мистеру Фэрли и, подготовив его, со всеми
предосторожностями рассказала ему обо всем случившемся. Как только он оправился
от своего ужаса и изумления, он гневно заявил, что мисс Голкомб позволила Анне
Катерик одурачить себя. Он сослался на письмо графа Фоско и на собственные
слова мисс Голкомб, которая раньше говорила, что между Анной Катерик и его
покойной племянницей существовало поразительное сходство, и наотрез отказался
хоть на минуту повидать эту сумасшедшую, появление которой в его доме было само
по себе оскорбительным и недопустимым.
Мисс
Голкомб вышла от него, переждала, пока первый припадок его гнева прошел, и, считая,
что во имя простого человеколюбия мистер Фэрли должен повидать свою племянницу,
прежде чем закроет перед ней двери ее собственного дома, без всякого
предупреждения ввела леди Глайд к нему в комнату. Камердинер преградил им
дорогу, но мисс Голкомб прошла мимо, ведя за руку свою сестру, и предстала с
ней перед мистером Фэрли.
Сцена,
последовавшая за этим, хотя и продолжалась всего несколько минут, не поддается
описанию. Мисс Голкомб сама уклонялась от воспоминаний о ней. Скажем только:
мистер Фэрли самым категорическим образом заявил, что не узнает женщину,
которую к нему привели; в ее лице и манерах нет ничего общего с его
племянницей, покоящейся на лиммериджском кладбище, и он обратится к законным
властям, если самозванку немедленно не удалят из его дома.
Как бы
неприязненно мы ни относились к эгоизму, черствости и полному отсутствию человечности
у мистера Фэрли, все-таки совершенно немыслимо допустить, чтобы он сознательно
совершил подлость, притворившись, что не узнает дочь своего родного брата. Как
справедливо и разумно сочла мисс Голкомб, ужас и предубеждение помешали ему
увидеть, что перед ним его родная племянница. Но когда затем она подвергла
испытанию слуг, ей пришлось убедиться, что все они, без единого исключения, не
уверены, чтобы не сказать больше, является ли леди, которую им показали,
действительно их молодой хозяйкой или же Анной Катерик, ибо и раньше знали об
их сходстве. Мисс Голкомб пришлось прийти к грустному выводу, что потрясения,
пережитые леди Глайд, изменили ее внешность гораздо значительнее, чем это
казалось самой мисс Голкомб. Гнусный обман, посредством которого леди Глайд
выдали за мертвую, проник в дом, где она родилась, и вводил в заблуждение даже
тех, среди которых она ранее жила. Несмотря на все это, положение, безусловно,
не было вполне безнадежным.
Например,
ее горничная Фанни, которой в это время не было в Лиммеридже, через день-два
должна была вернуться. Будучи постоянно при леди Глайд и любя свою госпожу
больше, чем другие слуги, она, весьма возможно, узнала бы ее. К тому же леди
Глайд могла временно остановиться если не у себя в доме, то у кого-нибудь в
деревне и подождать, пока ее здоровье и душевное равновесие настолько
поправятся, что она станет более похожа на себя. Когда ее память восстановится,
она, естественно, сможет говорить о своем прошлом в таких подробностях, о
которых самозванка не имела бы и понятия. Таким образом, с течением времени ее
тождественность будет установлена и доказана.
Но
обстоятельства, при которых она вновь обрела свободу, делали все это
практически невыполнимым. После Блэкуотер-Парка ее непременно станут искать в
Лиммеридже. Люди, которым было поручено найти беглянку, могли появиться здесь
через несколько часов, а мистер Фэрли был теперь в таком настроении, что они
могли вполне рассчитывать на его поддержку и влияние на местные власти, чтобы
помочь им задержать «Анну Катерик».
По этим
соображениям мисс Голкомб вынуждена была немедленно увезти леди Глайд из ее
собственного имения, где она подвергалась наибольшей опасности быть
задержанной.
Разумнее
и правильнее всего было немедленно вернуться в Лондон. Их следы надежно и
быстро затеряются в лабиринте огромного города. Приготовлений к отъезду не
требовалось, прощаться было не с кем. В этот памятный день мисс Голкомб убедила
сестру собрать остатки мужества и сделать над собой последнее усилие. Никто не
сказал им доброго слова на прощание, когда они вдвоем пустились в путь и
навсегда расстались с Лиммериджем. Они проходили через холмы, лежавшие за
кладбищем, когда леди Глайд стала настойчиво просить сестру вернуться, чтобы
попрощаться с могилой матери. Мисс Голкомб пробовала возражать, но безуспешно.
Ей не удалось поколебать решение своей сестры. Та была непреклонна. Ее тусклый
взгляд загорелся внутренним огнем, ее исхудавшие пальцы, перед этим безжизненно
лежавшие в руке сестры, с силой сжали эту дружественную руку. Я верю, что перст
Божий указывал им обратный путь, – самая несчастная и обездоленная из
людей почувствовала и поняла это. Они повернули обратно к кладбищу и тем самым
навсегда связали в одно наши три судьбы.
III
Такова
была эта история, насколько мы знали ее тогда. Мне стало ясно, когда мне ее рассказали,
что два неизбежных вывода напрашиваются сами собой. Во-первых, хоть и смутно,
но я уже понимал, как было задумано и осуществлено это злодеяние, как подстерегали
каждую возможность для претворения его в жизнь, как были подтасованы факты,
чтобы обеспечить полную безнаказанность этого дерзкого и запутанного
преступления. В то время как отдельные его подробности все еще оставались для
меня загадкой, мне было совершенно ясно, как гнусно, как страшно было
использовано сходство между женщиной в белом и леди Глайд.
Анна
Катерик была в доме графа под видом леди Глайд, леди Глайд заняла место умершей
Анны Катерик в лечебнице для умалишенных. Все было подстроено таким образом,
чтобы совершенно невиновные и непричастные люди (какими, бесспорно, были
доктор, две служанки и, вероятно, директор лечебницы) оказались соучастниками
этого преступления.
Второй
вывод являлся следствием первого. Всем троим нам не приходилось ждать пощады от
графа Фоско и сэра Персиваля Глайда. Успешное осуществление их гнусного замысла
принесло этим двум злодеям чистую прибыль в тридцать тысяч фунтов –
двадцать тысяч одному, а другому, через его жену, мадам Фоско, – десять
тысяч. В силу этого, а также и по многим другим причинам они, вне всякого
сомнения, были крайне заинтересованы в том, чтобы их преступление не было
раскрыто. Они, бесспорно, ни перед чем не остановятся, пойдут на любую низость,
чтобы доискаться, где скрылась их жертва, и разлучить ее с единственными ее
друзьями на свете – с Мэриан Голкомб и со мной.
Отдавая
себе ясный отчет в этой опасности – опасности, возраставшей с каждым
днем, – я тщательно обдумал, где нам лучше всего укрыться. Я решил
поселиться в восточной части Лондона, самой деловой и многолюдной. Я выбрал
самый бедный и перенаселенный квартал, ибо чем напряженнее кипела вокруг нас
борьба за кусок хлеба, тем меньше было риска, что досужие бездельники обратят
внимание на новых людей, поселившихся среди них. Вот преимущество, которого я
искал. Кроме того, наш квартал был выгоден для нас еще и в другом, не менее важном
отношении. Там, зарабатывая себе на жизнь, мы могли жить дешевле, имели
возможность экономить каждую копейку для достижения нашей цели, справедливой
цели, к которой я теперь неуклонно стремился: исправить страшное злодеяние и
восстановить попранные права Лоры.
Через
неделю Мэриан Голкомб и я установили ежедневный порядок, в котором должна была
протекать наша жизнь. Кроме нас, других квартирантов в доме не было. У нас был
отдельный вход, нам не приходилось проходить через лавку. Мы условились, что ни
Мэриан, ни Лора не сделают ни шагу из дому без меня. В мое отсутствие они ни в
коем случае не должны впускать к себе кого бы то ни было. Незыблемо установив
это правило, я отправился к человеку, которого знал в прошлом, – к граверу
по дереву с большой практикой, – и попросил у него работы. Я сказал ему,
что в силу некоторых причин мне не хотелось бы предавать огласке наши с ним
деловые отношения.
Он
сейчас же предположил, что я запутался в долгах, выразил мне свое сочувствие и
обещал сделать для меня все возможное. Я не стал разубеждать его и усердно
принялся за работу, которую он сразу же дал мне. Он знал, что может положиться
на мою опытность и трудолюбие. Я обладал тем, чего он искал, –
усидчивостью и способностями.
Хотя
заработок мой был небольшим, его хватало на наши насущные потребности. Как
только мы уверились в этом, Мэриан Голкомб и я подсчитали наши ресурсы. У нее
оставалось двести или триста фунтов, у меня было около того. Наш общий капитал
превышал четыреста фунтов. Я положил это маленькое богатство в банк, чтобы
тратить из него только на необходимые розыски и расследования, которые я решил
начать и довести до конца, даже если бы мне пришлось действовать в одиночку,
без всякой помощи со стороны кого бы то ни было. Мы рассчитали наши ежедневные
расходы и никогда не дотрагивались до нашего фонда, иначе как только в
интересах Лоры и для нее.
Домашняя
работа, которую делала бы служанка, если бы мы могли кому-нибудь довериться,
была полностью возложена на Мэриан Голкомб. Она сама заявила в первый же день,
что берет ведение нашего хозяйства на себя.
– Все,
что могут делать женские руки, – сказала она, – научатся вот
эти, – и протянула мне свои дрожащие от слабости руки.
Когда
она завернула рукава бедного, поношенного платья, которое из предосторожности
носила теперь, ее изможденные руки засвидетельствовали, как много ей пришлось
пережить. Но неугасимый дух по-прежнему жил в этой женщине. Две крупные слезы
медленно покатились по ее щекам, когда она посмотрела на меня. Но она смахнула
их с намеком на прежнюю энергию и жизнерадостность и улыбнулась мне. Увы, это
было лишь слабым отражением ее прежней искрометной улыбки.
– Не
сомневайтесь в моем мужестве, Уолтер, – сказала она. – Плачет мое
малодушие, а не я сама. Домашняя работа излечит его, вот посмотрите!
И она
сдержала слово. Когда мы встретились к вечеру и она присела отдохнуть, победа была
одержана. Ее большие черные глаза, умные и блестящие, взглянули на меня по-старому.
– Горе
меня еще не сломило, – сказала она, – поверьте, я смогу выполнить
свою часть работы. – И не успел я ответить, как она прибавила
шепотом: – Верьте, что на меня можно возложить часть риска и опасностей.
Вспомните об этом, когда настанет время и моя помощь вам понадобится.
Я
вспомнил об этом, когда настало время.
К концу
октября течение нашей жизни вошло в русло и все трое мы были так надежно затеряны
и спрятаны, как будто дом наш стоял на одиноком, безлюдном острове, а огромный
путаный лабиринт улиц и бесчисленное количество людей, окружавших нас, были
водами бескрайнего океана. У меня оставалось теперь немного свободного времени,
чтобы поразмыслить над планом моих будущих действий и над тем, как должен я
вооружиться в предстоящей борьбе с сэром Персивалем и графом.
Опираться
на мое и Мэриан свидетельство для установления личности Лоры было безнадежно.
Если бы мы любили ее менее горячо, если б наша любовь не была несравненно
проницательнее нашего рассудка, даже мы, пожалуй, не узнали бы ее с первого
взгляда.
Изменение,
которое претерпела ее внешность из-за страданий и ужасов прошлого, необычайно,
почти безнадежно, усилило ее сходство с Анной Катерик. Когда я рассказывал о
своем пребывании в Лиммеридже, я упомянул о том, как не похожи были они в каких-то
неуловимых мелочах, хотя на первый взгляд их сходство и тогда было необычайным.
Но в те дни ни один человек, увидев их рядом, не мог бы спутать их друг с
другом, как часто путают близнецов. Теперь это было не так. Страдания и лишения
наложили свою неизгладимую печать на юную красоту лица Лоры. Роковое сходство,
которое я когда-то с ужасом заметил, было теперь более чем сходством –
живым отражением, возникавшим перед моими глазами. Посторонние люди, знакомые,
даже друзья, которые не могли видеть ее через призму нашей беспредельной любви,
вправе были сомневаться в том, что она – Лора Фэрли, которую они когда-то
знали.
Вначале
я возлагал все упования на единственное, что могло бы помочь нам: я надеялся,
что она вспомнит людей и события, знать которые могла только подлинная Лора
Фэрли, но эта надежда оказалась несбыточной, как нам с Мэриан с грустью
пришлось убедиться в дальнейшем. Мы поняли, что попытка вернуть ее к
воспоминаниям об ужасном и тягостном прошлом грозит ей полной потерей рассудка
и идет вразрез с нашими непрестанными заботами о ее скорейшем выздоровлении, с
заботами о том, как привести в равновесие ее расстроенное сознание. Мы
осмеливались напоминать ей только о повседневных домашних событиях нашего
безоблачного прошлого в Лиммеридже, когда я впервые приехал туда учить ее
рисованию. Тот день, когда я пробудил эти воспоминания, показав ей рисунок
летнего домика, который она когда-то подарила мне и с которым я никогда не
расставался, был днем рождения нашей первой надежды. С нежностью, очень бережно
мы постепенно начали пробуждать в ней память о старых поездках и прогулках, и
печальные, молящие, усталые глаза начали смотреть на меня и Мэриан с новым интересом,
с новой осмысленностью, которыми мы с этой минуты так дорожили и которые так берегли.
Я купил ей коробку красок и альбом, похожий на тот альбом для рисования,
который был у нее в руках, когда я впервые ее увидал.
Снова –
о Господи, снова! – в свободные от работы часы я сидел подле нее в нашей
бедной комнате, выправляя при тусклом лондонском освещении кривые,
спотыкающиеся линии, которые она пыталась провести на бумаге своей слабой,
неуверенной рукой. День за днем пробуждался и рос ее интерес к этому занятию.
Постепенно она начала думать о рисунках, говорить о них и терпеливо
рисовать – с тем слабым отблеском прежней радости от моих похвал и собственных
успехов, которая принадлежала прошлой ее жизни, напоминала об утерянном счастье
минувших дней.
Мы
помогали ей выздороветь с помощью простых, непритязательных средств. Мы брали
ее на прогулки в хорошую погоду и гуляли в тихом старом сквере неподалеку от
дома, где не было ничего, что могло бы растревожить и испугать ее; мы тратили
немного денег из фонда в банке, чтобы покупать ей вино и необходимое ей хорошее
питание; мы развлекали ее по вечерам детскими играми в карты и книгами с
картинками, которые я брал у моего хозяина, гравера. Всем этим и другими
подобными забавами мы успокаивали ее, укрепляли ее душевные силы и, не переставая,
надеялись, и всем сердцем любили ее, никогда не отчаиваясь вернуть ей прежнее
счастье и прежнее имя. Но безжалостно вырвать ее из спокойного уединения,
поставить ее лицом к лицу с посторонними, чужими людьми или со знакомыми,
которые были почти чужими, напомнить ей горестные впечатления ее прошлого,
которых мы так тщательно избегали, даже если это и было в ее интересах, мы не
решались. Каких бы жертв это ни стоило, как бы долго ни пришлось этого ждать,
зло, которое ей причинили, надо было исправить помимо нее, без ее помощи,
оберегая ее от каких бы то ни было новых потрясений.
Решение
мое было принято. Надо было подумать, как его осуществить. Посоветовавшись с
Мэриан, я решил собрать как можно больше фактов и затем обратиться к мистеру
Кирлу (зная, что ему можно довериться) за советом: можем ли мы рассчитывать,
что закон будет на нашей стороне? Я не имел права рисковать всем будущим Лоры,
действуя по собственному усмотрению. Если была хоть малейшая возможность, надо
было заручиться чьей-то надежной помощью.
Прежде
всего я почерпнул сведения из дневника, который Мэриан Голкомб вела в Блэкуотер-Парке.
В нем были строки, относящиеся ко мне. Ей не хотелось, чтобы я читал их. Она
сама читала мне свой дневник, а я записывал нужные мне факты. Мы могли
заниматься этим только поздно вечером. Три вечера были посвящены этому занятию.
Я узнал все, что могла рассказать Мэриан.
Затем я
решил собрать все дополнительные факты, какие мог получить от других, не возбуждая
при этом подозрений. Я поехал к миссис Вэзи с целью проверить, правда ли, что
Лора ночевала у нее. Принимая во внимание возраст и бесхитростность миссис
Вэзи, я из предосторожности скрыл от нее положение, в котором мы находились, и
говорил о Лоре как о «покойной леди Глайд». Ответы миссис Вэзи только
подтвердили мое раннее предположение. Лора написала своей старой гувернантке, что
будет ночевать у нее, но в действительности не ночевала.
В данном
случае, как и во многих других, она ошибочно принимала свое намерение сделать
что-то или поступить так-то за реальные факты, на самом деле не имевшие места.
Объяснить причину такого разрыва между ее путаными представлениями и
действительностью было нетрудно, но это несоответствие могло серьезно повредить
нам. Противоречивость ее показаний в самом начале подорвала бы доверие к ней и
сыграла бы роковую роль в исходе судебного процесса.
Когда я
попросил показать мне письмо, которое Лора написала миссис Вэзи из
Блэкуотер-Парка, мне дали его без конверта, уничтоженного задолго до этого. В
самом письме никаких дат не упоминалось, не было проставлено даже дня недели.
Оно содержало только следующие строки:
«Дорогая
моя миссис Вэзи, я в большой тревоге и волнении. Может быть, я приеду к Вам
завтра вечером и попрошусь переночевать. Я не могу рассказать Вам в письме, что
случилось, – я пишу и очень боюсь и не могу ни на чем сосредоточиться.
Пожалуйста, будьте дома, когда я приеду. Я обниму и расцелую Вас и все расскажу
Вам.
Ваша
любящая Лора».
Чем
могли помочь нам эти строки? Ничем.
Возвратившись
от миссис Вэзи, я попросил Мэриан обратиться (соблюдая все те же предосторожности)
к миссис Майклсон. Мэриан должна была ей написать, что, имея серьезные причины
сомневаться в добропорядочности графа Фоско, она просит домоправительницу
прислать ей краткий отчет о событиях, имевших место в Блэкуотер-Парке, с целью
установить истинные факты. Пока мы ждали ответа, который пришел через неделю, я
поехал к доктору Гудрику в Сент-Джонз-Вуд как посланец от мисс Голкомб, чтобы
собрать как можно больше подробностей о последней болезни «ее сестры», чего не
мог сделать из-за недостатка времени мистер Кирл. С помощью мистера Гудрика я
получил копию акта о смерти леди Глайд и повидался с женщиной (Джейн Гулд),
которая приготовила тело умершей для погребения. Через нее я получил возможность
встретиться со служанкой Эстер Пинхорн. Та недавно ушла от графини Фоско,
повздорив со своей хозяйкой, и жила у знакомых миссис Гулд. Я получил отчеты от
домоправительницы, от доктора Гудрика, Джейн Гулд и Эстер Пинхорн в таком виде,
как они представлены здесь. Собрав сведения, описанные в этих документах, я
счел себя достаточно подготовленным, чтобы поговорить с мистером Кирлом. Мэриан
написала ему обо мне и указала день и час, когда я приду повидать его по
важному личному делу.
Утром у
меня было достаточно времени, чтобы повести Лору на обычную прогулку и, возвратившись,
усадить ее за рисование. Когда я встал, чтобы уйти, она взглянула на меня с видимым
волнением, и пальцы ее по-старому начали нервно перебирать лежащие на столе
карандаши и кисти.
– Я
вам еще не надоела? – сказала она. – Вы уходите не потому, что я вам
надоела? Я постараюсь стать лучше – я постараюсь скорее выздороветь.
Любите ли вы меня по-прежнему, Уолтер, теперь, когда я такая бледная и худая и
так медленно учусь рисовать?
Она
говорила, как ребенок, она по-детски открывала мне все свои мысли. Я остался на
несколько минут и сказал ей, что теперь она мне еще дороже, чем была в прошлом.
– Постарайтесь
стать снова здоровой, – сказал я, чтобы поддержать зародившуюся в ней
новую надежду на будущее, – постарайтесь поскорее выздороветь ради меня и
Мэриан.
– Да, –
сказала она себе, возвращаясь к своему рисованию, – я должна постараться.
Ведь они оба так меня любят. – Она вдруг подняла на меня глаза: – Не
уходите надолго! Когда вас нет, чтобы помочь мне, Уолтер, я ничего не могу
нарисовать!
– Я
скоро вернусь, дорогая, скоро вернусь и посмотрю, что у вас выходит.
Голос
мой дрогнул помимо моей воли. Я заставил себя выйти из комнаты. Все мои душевные
силы могли понадобиться мне в этот день.
Открыв
двери, я сделал знак Мэриан, чтобы она вышла за мной на лестницу. Необходимо
было подготовить ее к возможным неприятностям, которые могли случиться в
результате того, что я слишком открыто показывался на улицах.
– По
всей вероятности, через несколько часов я вернусь, – сказал я. –
Никого не впускайте, как обычно. Если что-нибудь произойдет...
– Что
может произойти? – перебила она. – Скажите уж откровенно, Уолтер,
есть ли какая-нибудь опасность? Мне надо быть наготове.
– Единственная
опасность, – отвечал я, – заключается в том, что, возможно, сэр
Персиваль Глайд вернулся в Лондон, узнав об исчезновении Лоры из лечебницы. Вы
помните, он следил за мной до моего отъезда из Англии и, очевидно, знает меня в
лицо, хотя я его никогда не видел.
Она
положила мне руку на плечо и молча взволнованно посмотрела на меня. Я увидел,
что она полностью отдает себе отчет в серьезной опасности, которая нам грозила.
– Не
думаю, что сэр Персиваль Глайд или его подручные скоро обнаружат меня в
Лондоне. Но такая возможность имеется, – сказал я. – Поэтому вы не
должны тревожиться, если сегодня я не вернусь. Вы успокоите Лору под любым
предлогом, правда? Если у меня будет малейшее подозрение, что за мной следят, я
приму меры и ни один сыщик не дойдет за мной до этого дома. Как бы долго я ни
задержался, не сомневайтесь в моем возвращении, Мэриан, и не бойтесь никого.
– Никого! –
отвечала она твердо. – Вы не пожалеете, Уолтер, что ваш единственный помощник –
женщина. – Она помолчала и задержала меня еще на минуту. – Будьте
осторожны! – сказала она, крепко сжимая мою руку. – Будьте осторожны!
Я ушел
на поиски нужных мне сведений – в темный, опасный путь, который начинался
у дверей конторы поверенного.
IV
Ничего
особенного на моем пути в контору мистеров Гилмора и Кирла на Чансери-лейн не
случилось.
Когда
мистеру Кирлу отнесли мою визитную карточку, мне в голову пришло одно соображение,
и я пожалел, что раньше не подумал о нем. Из записей Мэриан было совершенно
ясно, что граф Фоско вскрыл ее письмо из Блэкуотер-Парка к мистеру Кирлу и с
помощью своей жены перехватил ее второе письмо к нему же. Поэтому граф
прекрасно знал адрес конторы и хорошо понимал, что, если Мэриан после побега
Лоры из лечебницы будет нуждаться в совете и помощи, она обратится, конечно, к
мистеру Кирлу. По распоряжению графа и сэра Персиваля первым долгом будет
установлено наблюдение за конторой на Чансери-лейн. Если наблюдать будут те,
кто следил за мной до отъезда из Англии, они сразу же узнают меня. Я допускал,
что меня могут случайно выследить на улице, но мысль о риске, связанном с
конторой, не приходила мне в голову. Исправлять эту ошибку было уже
поздно – поздно было думать о том, что я мог условиться о встрече с
поверенным в каком-нибудь другом месте. Мне оставалось только, покидая
Чансери-лейн, принять необходимые предосторожности и ни в коем случае не
возвращаться домой прямым путем.
Мне
пришлось прождать несколько минут в передней. Затем меня провели в кабинет к мистеру
Кирлу. Это был бледный, худой, сдержанный человек с внимательными глазами,
тихим голосом и спокойными манерами. Я сразу понял, что симпатии его завоевать
нелегко, что вывести его из профессионального равновесия трудно и подкупить
невозможно. Лучшего юриста для моих целей нельзя было и придумать. Если бы он
пришел к решению, для нас благоприятному, мы могли бы с уверенностью считать,
что выиграем наш процесс.
– Прежде
чем я заговорю о делах, по которым я пришел к вам, – сказал я, –
должен предупредить вас, мистер Кирл, что займу у вас довольно много времени.
– Мое
время в распоряжении мисс Голкомб, – отвечал он. – Во всем, что
касается ее дел, я выступаю в качестве поверенного своего компаньона, мистера
Гилмора. Он сам просил меня об этом, когда вынужден был временно оставить
практику.
– Разрешите
спросить: мистер Гилмор в Англии?
– Нет,
он живет у родственников в Германии. Его здоровье поправилось, но, когда он вернется,
неизвестно.
Пока мы
обменивались этими фразами, он рылся в бумагах, лежащих у него на столе, и
наконец вынул и положил перед собой запечатанное письмо. Мне показалось, что он
хочет протянуть его мне, но, почему-то передумав, он положил письмо на стол,
уселся в кресло и стал молча ждать, что я ему скажу.
Не теряя
времени, я рассказал о фактах, уже описанных на этих страницах.
Он был
юристом до мозга костей, и все же я нарушил его профессиональную невозмутимость.
Возгласы изумления, которые он не мог подавить, прерывали меня несколько раз.
Под конец я задал ему главный вопрос:
– Что
вы об этом думаете, мистер Кирл?
Он был
слишком осторожен, чтобы ответить мне прямо, пока не соберется с мыслями.
– Прежде
чем ответить, – сказал он, – я попрошу разрешения задать вам
несколько вопросов, чтобы, так сказать, не плутать в лесу.
Его
вопросы были острыми, подозрительными, недоверчивыми. Мне стало ясно, что он
считает меня жертвой заблуждения и, если бы не рекомендательное письмо мисс
Голкомб, готов был бы заподозрить меня в каком-то хитроумном мошенничестве.
– Вы
верите, что я говорил вам правду, мистер Кирл? – спросил я, когда он
перестал экзаменовать меня.
– Что
касается вашего собственного убеждения, я уверен, что вы говорите
правду, – отвечал он. – Я питаю глубочайшее уважение к мисс Голкомб и
потому уважаю и человека, которому она доверяет в таком серьезном деле. Я пойду
даже дальше, если хотите, и соглашусь из вежливости, во избежание споров, что
тождество этой женщины с леди Глайд неоспоримо для мисс Голкомб и для вас. Но
вы пришли ко мне за юридическим советом. Как юрист, и только как юрист, я
обязан сказать вам, мистер Хартрайт, что у вас нет ни малейших доказательств
вашей правоты.
– Это
сильно сказано, мистер Кирл.
– Я
постараюсь, чтобы это было столь же ясно. Свидетельства о факте смерти леди
Глайд совершенно удовлетворительны. Ее родная тетка свидетельствует, что она
приехала к графу Фоско, заболела и умерла. Затем есть медицинское заключение о
ее смерти, последовавшей в силу естественных причин. Есть факт похорон в
Лиммеридже и заключительное свидетельство – надпись на надгробном
памятнике. Вот факты, которые вы хотите опровергнуть. Какие у вас есть
доказательства, что личность, которая умерла и была похоронена, – не леди
Глайд?
Рассмотрим
основные пункты вашего заявления. Мисс Голкомб едет в некую частную лечебницу и
видит там некую пациентку. Нам известны следующие неоспоримые факты: женщина по
имени Анна Катерик, необыкновенно похожая на леди Глайд, убежала из лечебницы;
особа, вторично принятая в лечебницу в июле, называется Анной Катерик;
джентльмен, привезший ее туда, предупредил мистера Фэрли, что душевнобольная
Анна Катерик выдает себя теперь за его умершую племянницу, и действительно она,
Анна Катерик, постоянно утверждает в лечебнице (где ей никто не верит), что она
леди Глайд. Вот факты. Что вы можете им противопоставить? То, что мисс Голкомб
узнала в этой женщине свою сестру? Но дальнейшие события противоречат этому.
Заявила ли мисс Голкомб владельцу лечебницы об установлении личности своей
сестры и приняла ли законные меры, чтобы взять ее оттуда? Нет! Она тайно
подкупила служительницу и устроила побег. Когда пациентку освободили таким
незаконным путем и привезли к мистеру Фэрли – узнал ли он ее? Усомнился ли
хоть на одно мгновение в смерти своей племянницы? Нет. Узнали ли ее слуги? Нет.
Осталась ли она по соседству с родным домом, чтобы добиться признания своей
личности путем дальнейших доказательств? Нет. Ее тайно увозят в Лондон. За это
время вы также узнали в ней леди Глайд, но вы не родственник – вы даже не
старый друг ее семьи. Слуги свидетельствуют против вас; мистер Фэрли
свидетельствует против мисс Голкомб, а предполагаемая леди Глайд дает самые
противоречивые показания. Она заявляет, что провела ночь в некоем доме. Вы сами
говорите, что она там не была. Вы сами заявляете, что ее душевное состояние не
позволяет ей подвергаться какому-либо допросу со стороны судебных властей и
самой доказать свою правоту. Я пропускаю некоторые подробности, чтобы не терять
времени. Я спрашиваю вас: если бы дело пошло в суд, на рассмотрение присяжных,
обязанных считаться с фактами, а не с предположениями, какие неопровержимые
доказательства мы могли бы им представить?
Я
молчал; мне надо было собраться с мыслями, прежде чем ответить ему. Впервые
история Лоры и Мэриан предстала передо мной с точки зрения постороннего
человека; впервые я по-настоящему осознал те бесчисленные препятствия, которые
лежали на нашем пути.
– Факты
в вашем изложении, бесспорно, против нас, – сказал я, – но...
–...но
вы считаете, что их можно объяснить и этим опровергнуть, – сказал мистер
Кирл. – Разрешите сказать вам то, что я знаю по опыту. Когда английский
суд стоит перед выбором между фактами и длинным объяснением этих фактов, он
всегда предпочитает факты, а не объяснения. Например, леди Глайд (во избежание
спора я называю этим именем даму, о которой вы пришли говорить со мной)
заявляет, что ночевала в некоем доме, а доказано будет, что она там не
ночевала. Вы объясняете это обстоятельство ее болезненным душевным состоянием,
впадая, так сказать, в метафизику. Я не говорю, что ваше объяснение
неправильно, но считаю: суд увидит в этом только противоречие или обман и не
примет во внимание никаких объяснений, которые вы ему представите.
– Но
разве нельзя терпеливо и тщательно постараться собрать новые
доказательства? – настаивал я. – У меня и мисс Голкомб есть несколько
сотен фунтов...
Он с
нескрываемой жалостью посмотрел на меня и покачал головой.
– Советую
вам терпеливо и тщательно обдумать все, мистер Хартрайт, – сказал
он. – Если вы правы насчет сэра Персиваля Глайда и графа Фоско (заметьте,
что я совершенно не согласен с вами), на вашем пути к новым доказательствам вы
встретитесь с непреодолимыми препятствиями. Вам придется столкнуться с
юридическими трудностями и задержками, ибо каждый пункт в вашем деле будет систематически
оспариваться. К тому времени как мы истратим многие тысячи вместо сотен,
которые у вас есть, дело решится, по всей вероятности, не в нашу пользу. Вопрос
установления личности в тех случаях, когда между двумя людьми существует
большое сходство, – труднейшая задача. Труднейшая, даже если нет такой
путаницы, какая есть в деле, о котором мы с вами сейчас говорим. Я, право, не
вижу, каким образом можно было бы пролить свет на эту необыкновенную историю.
Допустим, женщина, похороненная на лиммериджском кладбище, не леди Глайд, но
ведь, по вашим словам, она была так похожа на ту, другую, что, даже если мы
получим разрешение вскрыть могилу и осмотреть тело, мы ничего не докажем.
Короче, начинать процесс бесцельно. У вас нет никаких доказательств, мистер Хартрайт,
право, никаких!
Я был
убежден, что основания для процесса существуют и что правда на нашей стороне, а
потому не сдавался.
– Помимо
прямого установления личности леди Глайд, разве нет других доказательств, которые
мы могли бы представить? – спросил я.
– Но
у вас их нет, – возразил он. – Самым простым и убедительным из всех
доказательств было бы сравнение между датами, но, насколько я понимаю, этого вы
не можете сделать. Если бы вы могли доказать, что между датой смерти
предполагаемой леди Глайд и датой прибытия настоящей леди Глайд в Лондон есть
несоответствие, дело приняло бы совсем другой оборот и я первый сказал бы: «Мы
победим».
– Может
быть, я еще смогу установить эту дату, мистер Кирл.
– В
тот день, когда вы ее установите, мистер Хартрайт, ваше дело будет выиграно.
Если сейчас у вас есть какие-либо соображения по этому поводу, скажите мне.
Посмотрим, может быть, я смогу дать вам совет.
Я
задумался. Ни домоправительница, ни Лора, ни Мэриан не могли нам в этом помочь.
По всей вероятности, единственными лицами, которые знали дату отъезда Лоры из
Блэкуотер-Парка, были сэр Персиваль и граф Фоско.
– В
настоящее время я не знаю, каким способом установить эту дату, – сказал
я. – Не знаю, кто может знать ее, кроме графа Фоско и сэра Персиваля
Глайда...
На
спокойном, внимательном лице мистера Кирла в первый раз появилась улыбка.
– Судя
по тому, какое мнение вы составили себе об этих джентльменах, – сказал
он, – я не думаю, что вы собираетесь обращаться за помощью к ним? Если они
завладели большой суммой денег мошенническим путем, вряд ли они в этом
сознаются.
– Их
можно заставить сознаться, мистер Кирл.
– Кто
сможет их заставить?
– Я.
Mы оба
встали. Он внимательно, с более серьезным интересом, чем раньше, посмотрел на
меня. Я видел, что несколько удивил его.
– Вы
очень решительны, – сказал он. – Без сомнения, для этого у вас есть
личные причины, я не имею права о них спрашивать. Если в будущем у вас найдутся
доказательства, могу только сказать, что я полностью к вашим услугам и начну
процесс. Но должен предупредить вас (поскольку к судебным процессам всегда
примешивается материальная заинтересованность): даже если вы докажете, что леди
Глайд жива, вряд ли можно будет вернуть ее состояние. Итальянец, наверно,
покинет страну раньше, чем процесс начнется, а денежные затруднения сэра
Персиваля настолько серьезны, что его теперешний капитал целиком пойдет на
уплату кредиторам. Вы, конечно, отдаете себе отчет...
Тут я
прервал его.
– Прошу
вас, не будем говорить о материальных делах леди Глайд, – сказал я. –
Я ничего не знал о них в прошлом и не знаю теперь. Мне известно только, что она
все потеряла. Вы правы, у меня есть личные причины интересоваться ее судьбой,
но эти причины не имеют никакого отношения...
Он
попробовал вмешаться и объяснить. Почувствовав, что он сомневается в моем
бескорыстии, я разгорячился и продолжал, не слушая его.
– Никакой
материальной заинтересованности, – сказал я, – никакой мысли о личной
выгоде нет в той услуге, которую я намереваюсь оказать леди Глайд. Она жива, а
ее, как чужую, выгнали из ее родного дома, могила ее матери осквернена лживой
надписью, гласящей о ее смерти, ее считают самозванкой, и на свете существуют
два человека, благополучно и безнаказанно здравствующие и виновные во всем
этом! В присутствии всех тех, кто шел за гробом на подложных похоронах, дом,
где она родилась, откроет перед ней двери. По распоряжению главы ее семьи
лживую надпись на надгробном памятнике уничтожат, а эти двое ответят за свое
преступление – ответят передо мной, несмотря на то что правосудие, заседающее
в трибунале, бессильно и не может наказать их. Права Лоры Фэрли должны быть
восстановлены. Я готов посвятить всю свою жизнь достижению этой цели, и, если
Бог мне поможет, я достигну ее и один!
Он
отступил от стола и ничего не сказал. На лице его было ясно написано, что он
считает мое решение безрассудным, но понимает, что отговаривать меня
бесполезно.
– Мы
оба останемся при своем мнении, мистер Кирл, – сказал я. – Будущее
покажет, кто из нас прав. А сейчас я благодарю вас за внимание, с которым вы
меня выслушали. Вы дали мне понять, что закон не может нам помочь. У нас нет
юридических доказательств, и мы недостаточно богаты, чтобы оплатить судебные
издержки. Хорошо, что мы теперь об этом знаем.
Я
поклонился и пошел к двери. Он окликнул меня и отдал мне письмо, которое в
начале нашего разговора положил перед собой на стол.
– Это
письмо прибыло несколько дней назад, – сказал он. – Может быть, вы не
откажете мне в любезности передать его по назначению. Прошу вас при этом
сказать мисс Голкомб о моем искреннем сожалении, что пока я не могу ей помочь
ничем, кроме совета.
Он
говорил, а я смотрел на письмо. Оно было адресовано «Мисс Голкомб, через
мистера Гилмора и Кирла, Чансери-лейн». Почерк был мне совсем незнаком.
Уходя, я
задал ему последний вопрос:
– Не
знаете ли вы, сэр Персиваль Глайд по-прежнему в Париже?
– Он
вернулся в Лондон, – отвечал мистер Кирл. – По крайней мере так я
слышал от его поверенного, которого вчера встретил.
После
этого я ушел. Покидая контору, я из предосторожности шел прямо, не оглядываясь,
чтобы не привлекать к себе внимания прохожих. Я дошел до одного из самых
малолюдных скверов в Холборне, потом сразу остановился и посмотрел назад –
за мной простирался длинный отрезок тротуара. Двое мужчин, которые тоже
остановились на углу сквера, разговаривали друг с другом. После минутного
раздумья я повернулся, чтобы пройти мимо них. При моем приближении один из них
отошел и завернул за угол. Другой остался. Проходя мимо, я взглянул на него и
сразу же узнал одного из тех, кто следил за мной до моего отъезда из Англии.
Если бы
я был свободен в своих желаниях, я бы, наверно, заговорил с этим человеком и
кончил тем, что ударил бы его. Но я должен был учесть последствия. Если хоть
однажды я публично себя скомпрометирую, тем самым я дам оружие в руки сэру Персивалю.
Оставалось только ответить на хитрость хитростью. Я свернул на улицу, куда
пошел второй человек, и, увидев, что он спрятался в подъезде, прошел мимо него.
Я не знал его в лицо и обрадовался возможности рассмотреть его вблизи на случай
будущих неприятностей. После этого я пошел к скверу до Нью-роуд. Свернув в
западном направлении (оба сыщика шли за мной по пятам), я подождал первого
попавшегося кеба. Как только кеб поравнялся со мной, я вскочил в него и
приказал кучеру быстро ехать к Гайд-парку. Другого кеба на улице не было.
Оглянувшись, я увидел, как эти двое бросились за мной в погоню, очевидно, решив
добежать до стоянки кебов. Но мы опередили их, и, когда я остановил кучера и
вышел, их нигде не было. Я прошел через весь Гайд-парк и убедился, что за мной
никто не следит. Когда наконец я повернул к дому, прошло уже много часов, было
уже совсем темно.
Мэриан
ждала меня одна в нашей крошечной гостиной. Она уговорила Лору лечь спать,
обещав показать мне ее рисунки, как только я вернусь.
Бедный,
робкий набросок, такой незначительный сам по себе, но такой трогательный по
существу, стоял на столе. Его освещала единственная свеча, которую мы могли
себе позволить. Чтобы рисунок не упал, его с двух сторон поддерживали книги. Я
сел и начал смотреть на него, шепотом рассказывая Мэриан обо всем случившемся.
Перегородка, отделявшая нас от второй комнаты, была так тонка, что до нас
доносилось еле слышное дыхание спящей Лоры, и, если бы мы заговорили громко, мы
могли бы разбудить ее.
Пока я
рассказывал Мэриан о своем свидании с мистером Кирлом, она слушала меня вполне
спокойно. Но когда я заговорил о возвращении в Англию сэра Персиваля и о том,
что за мной следили, когда я вышел от поверенного, ее лицо омрачилось.
– Скверные
новости, Уолтер, – сказала она, – самые скверные, какие только могли
быть. Вам нечего больше сказать мне?
– У
меня есть что передать вам, – отвечал я, передавая ей письмо, врученное
мне мистером Кирлом.
Она
взглянула на конверт и тут же узнала почерк.
– Вы
знаете, кто вам пишет? – спросил я.
– Прекрасно
знаю, – отвечала она, – мне пишет граф Фоско.
С этими
словами она вскрыла конверт. Щеки ее запылали, когда она прочитала письмо,
глаза гневно сверкали, когда она протянула его мне, чтобы я прочитал письмо в
свою очередь.
В нем
были следующие строки: «Почтительнейшее восхищение – достойное меня, достойное
Вас – побуждает меня, великолепная Мэриан, во имя Вашего спокойствия
сказать Вам в утешение: не бойтесь ничего! Пусть Ваш тончайший ум подскажет Вам
необходимость оставаться в тени. Дорогая и божественная женщина, не ищите
опасной огласки. Отречение возвышенно – придерживайтесь его. Скромный
домашний уют вечно мил – пользуйтесь им. Жизненные бури не бушуют в долине
уединения – пребывайте, дражайшая леди, в этой долине. Поступайте
так – и Вам нечего будет бояться, говорю я. Никакие новые бедствия не
изранят Вашей чувствительности – чувствительности столь же драгоценной для
меня, как моя собственная. Вам не будут больше досаждать; прелестную подругу
Вашего уединения не будут больше преследовать. Она обрела новый приют в Вашем
сердце. Бесценный приют! Я завидую ей и оставляю ее там.
Последнее
слово, последнее нежнейшее отеческое предостережение, и я оторвусь от чарующего
счастья обращаться к Вам – я закончу эти страстные строки.
Не идите
дальше, остановитесь! Не затрагивайте ничьих интересов! Не грозите никому! Не
заставляйте меня – молю! – перейти к действиям, меня, человека
действий, когда я стремлюсь только к одному: оставаться бездейственным,
сдерживать свою энергию и предприимчивость – ради Вас! Если у Вас есть
опрометчивые друзья, умерьте их прискорбный пыл. Если мистер Хартрайт вернется
в Англию, не общайтесь с ним. Я иду по своей тропе, а Персиваль следует за мной
по пятам. В тот день, когда мистер Хартрайт пересечет эту тропу, горе
ему – он конченый человек!»
Единственной
подписью под этими строками была буква «Ф», окруженная затейливыми закорючками.
Я швырнул письмо на стол с тем презрением, которое к нему чувствовал.
– Он
пытается запугать вас – верный признак, что он сам боится, – сказал
я.
Она была
слишком женщиной, чтобы отнестись к этому письму, как я. Дерзкая фамильярность
его выражений возмутила ее. Когда она взглянула на меня через стол, ее кулаки
были сжаты и прежний горячий гнев зажег ее глаза и щеки.
– Уолтер! –
сказала она. – Если эти двое очутятся в ваших руках и если вы решите пощадить
одного из них, пусть это будет не граф!
– Я
сохраню его письмо, Мэриан, чтобы вспомнить о ваших словах, когда настанет
время.
Она
пристально взглянула на меня.
– Когда
настанет время, – повторила она. – Почему вы так уверены, что оно
настанет? После того, что вы слышали от мистера Кирла, после того, что с вами
было сегодня?
– Сегодняшний
день не в счет, Мэриан. Все, что я сделал сегодня, сводится к одному: я попросил
другого человека сделать все за меня. Я буду вести счет с завтрашнего дня.
– Почему?
– Потому
что с завтрашнего дня я начну действовать сам.
– Каким
образом?
– Я
поеду в Блэкуотер с первым поездом и надеюсь вернуться к ночи.
– В
Блэкуотер!
– Да.
У меня было время для размышлений, после того как я ушел от мистера Кирла. Его
мнение совпадает с моим в одном: мы должны во что бы то ни стало установить
дату отъезда Лоры из Блэкуотер-Парка в Лондон. Какого числа это было?
Единственное слабое место в заговоре и, наверно, единственная возможность
доказать, что она живой человек, заключается в установлении этой даты.
– Иными
словами, – сказала Мэриан, – это будет являться доказательством, что
Лора уехала из Блэкуотер-Парка уже после того, как доктор зарегистрировал
умершую?
– Конечно!
– Почему
вы предполагаете, что это могло быть после? Лора ничего не может сказать нам о
времени своего прибытия в Лондон.
– Но
владелец лечебницы сказал вам, что ее, то есть Анну Катерик, приняли в
лечебницу двадцать седьмого июля. Я сомневаюсь, чтобы граф Фоско мог прятать Лору
в Лондоне, поддерживая в ней бессознательное состояние, более чем одну ночь.
Судя по всему, она выехала двадцать шестого и приехала в Лондон к вечеру, то
есть на другой день после даты своей «смерти», которая помечена в медицинском
заключении. Если мы сможем установить и доказать это, мы выиграем наш процесс
против сэра Персиваля и графа.
– Да,
да, я понимаю! Но как добыть это доказательство?
– Отчет
миссис Майклсон подсказывает мне два пути. Один из них – расспросить
доктора Доусона, который должен знать, какого числа он прибыл в Блэкуотер-Парк
после того, как Лора уехала. Второй: расспросить всех в гостинице, где сэр
Персиваль остановился в ту ночь, когда уехал. Мы знаем, что его отъезд
последовал через несколько часов после отъезда Лоры, и таким путем мы установим
дату. Во всяком случае, стоит сделать эту попытку, и я сделаю ее завтра, я так
решил.
– А
если ваша попытка ни к чему не приведет? Я предполагаю худшее, Уолтер, но буду
верить в лучшее, даже если сначала у нас будут одни только разочарования и
неудачи. Предположим, никто не сможет помочь вам в Блэкуотере.
– Остаются
два человека в Лондоне, которые могут помочь и помогут: сэр Персиваль и граф.
Люди, ни в чем не виновные, могут забыть дату, но эти двое виновны, и они ее
помнят. Если завтра я ничего не добьюсь, в будущем я намерен заставить одного
из них или их обоих признаться во всем.
На лице
Мэриан отразилась вся ее женская сущность.
– Начните
с графа, – шепнула она нетерпеливо, – ради меня, начните с графа!
– Мы
должны начать ради Лоры там, где у нас больше шансов на успех, – отвечал
я.
Она
побледнела и грустно покачала головой.
– Да, –
сказала она, – вы правы. Я стараюсь быть терпеливой, Уолтер, и теперь это
мне удается лучше, чем в счастливые прошлые дни, но во мне осталось еще немного
от моей прежней вспыльчивости, она дает себя знать, когда я думаю о графе!
– Наступит
и его черед, – сказал я. – Но помните: в его прошлом мы еще не
открыли темных пятен. – Я подождал немного, а потом произнес решающие
слова: – Мэриан! Мы с вами знаем о темном пятне в биографии сэра
Персиваля.
– Его
тайна!
– Да!
Его тайна. Это наше единственное оружие. Только раскрыв эту тайну, я смогу достичь
цели, принудив его признаться в своем злодеянии. Что бы ни сделал граф, сэр
Персиваль согласился на заговор против Лоры не только из-за денег. Вы сами
слышали, как он сказал графу о своей уверенности, что его жена знает
достаточно, чтобы погубить его? Вы сами слышали, как он сказал, что он конченый
человек, если тайна, о которой знала Анна Катерик, станет известной?
– Да,
да! Я слышала!
– Ну
так вот, Мэриан, если нам ничего другого не останется, я намерен раскрыть его
тайну. Мое прежнее предчувствие не оставляет меня. Я снова говорю, что женщина
в белом и посмертно играет решающую роль в нашей общей судьбе. Развязка
предрешена, развязка приближается – и Анна Катерик из гроба указывает нам
путь!
V
О
результатах моих поисков в Хэмпшире я могу рассказать в нескольких словах.
Уехав из Лондона рано утром, я был у мистера Доусона еще до полудня. Наше
свидание не дало никаких результатов, не прибавив ничего нового к тому, о чем я
хотел знать.
С
помощью дат, записанных в памятной книжке мистера Доусона, можно было
установить, какого числа он возобновил свои визиты к мисс Голкомб в
Блэкуотер-Парке, но рассчитать по этим записям, какого именно числа леди Глайд
уехала в Лондон, можно было только с помощью миссис Майклсон, а, насколько мне
было известно, эту помощь миссис Майклсон оказать не могла. Она не могла
припомнить (кто из нас мог бы припомнить на ее месте?), сколько дней прошло со
дня отъезда леди Глайд до вторичного появления доктора в Блэкуотер-Парке. Она
была почти уверена, что рассказала мисс Голкомб об отъезде ее сестры на
следующий же день после этого, но не могла сказать, какого это было числа. Не
помнила она также, хотя бы приблизительно, через сколько дней после отъезда
миледи было получено письмо от графини Фоско. И наконец, в довершение неудач,
сам доктор, будучи нездоров в те дни, не записал, какого числа садовник из
Блэкуотер-Парка передал ему приглашение миссис Майклсон. Убедившись, что
дальнейшие расспросы мистера Доусона ни к чему не приведут, я решил попытаться
установить дату прибытия сэра Персиваля в Нолсбери.
В этом
было что-то роковое! Когда я приехал в Нолсбери, сельская гостиница была заколочена,
и на ее стенах были наклеены объявления о продаже. Мне объяснили, что, с тех
пор как провели железную дорогу, дела в Нолсбери пришли в упадок. Приезжие
останавливаются в новом отеле, у вокзала, а старая гостиница (где, как мы
знали, ночевал сэр Персиваль) была закрыта вот уже около двух месяцев. Хозяин
гостиницы уехал со всеми своими пожитками и домочадцами, а куда –
неизвестно. Четверо жителей, которых я расспрашивал в Нолсбери, рассказали мне
четыре разные версии о дальнейших планах и проектах хозяина гостиницы, когда тот
покидал город.
До
отхода поезда в Лондон оставалось несколько часов. Я нанял экипаж, чтобы снова
вернуться в Блэкуотер-Парк и расспросить садовника и привратника. Если они тоже
ничем не смогут помочь, мне оставалось только вернуться в Лондон. Я расплатился
с возницей, не доезжая до поместья, и, пользуясь его указаниями, направился к
дому. Свернув с шоссе, я увидел человека с саквояжем в руках, быстро шедшего
передо мной по дороге к домику привратника. Он был маленького роста, в
поношенном черном костюме и в шляпе с большими полями. Я предположил, что это
какой-нибудь клерк из юридической конторы, и остановился, чтобы увеличить
расстояние между нами. Он не слышал моих шагов и скрылся из глаз, ни разу не
обернувшись. Когда немного спустя я вошел через ворота, его нигде не
было – очевидно, он был уже в доме.
В
коттедже привратника я застал двух женщин. Одна из них была старуха, в другой я
сразу узнал по описаниям Маргарет Порчер.
Сначала
я осведомился, у себя ли сэр Персиваль, и, получив отрицательный ответ,
спросил, когда он уехал. Кроме того, что это было летом, они обе ничего не
могли мне сказать. Маргарет Порчер только бессмысленно улыбалась и качала
головой. Старуха оказалась более сметливой, и я сумел навести ее на разговор об
отъезде сэра Персиваля. Она прекрасно помнила, как хозяин напугал ее, разбудив
среди ночи криками и ругательствами, но какого это было числа, по ее собственным
словам, «ей было невдомек».
Выйдя из
домика, я увидел садовника, работавшего неподалеку. Вначале, когда я к нему
обратился, он посмотрел на меня не очень приветливо, но, услышав вежливый отзыв
о миссис Майклсон и о самом себе, он охотно разговорился. Описывать, о чем мы
говорили, не стоит – наш разговор ни к чему не привел. Я опять-таки не
узнал даты. Садовник помнил только, что хозяин уехал в конце июля.
Во время
разговора я заметил человека в черном – он вышел из дома и наблюдал за
нами. Кое-какие подозрения по поводу его появления в Блэкуотер-Парке уже
приходили мне в голову. Они усилились оттого, что садовник не мог (или не
желал) сказать мне, что это за человек. Я решил подойти и заговорить с ним.
Самым простым вопросом было, разрешается ли посетителям осматривать дом. Я
подошел и спросил его об этом.
Его
взгляд и манеры сразу выдали, что ему известно, кто я, и что он ищет ссоры со
мной. Он ответил мне так дерзко, что могла бы произойти ссора, если бы я был
менее осторожен. Но я вел себя с ним чрезвычайно вежливо, извинился за свое
«вторжение», как он выразился, и ушел. Все было так, как я и предполагал. Меня
узнали, когда я уходил от мистера Кирла, сообщили об этом сэру Персивалю
Глайду, и человек в черном был послан в Блэкуотер-Парк на случай, если я
появлюсь около дома или где-нибудь поблизости. Если бы я дал ему малейший
предлог для жалобы на меня, местные власти могли бы меня задержать и разлучить
с Лорой и Мэриан, во всяком случае, на несколько дней.
Я был
готов к тому, что за мной будут следить на моем обратном пути из
Блэкуотер-Парка, как это было накануне в Лондоне. Но на этот раз я так и не
смог выяснить, следили за мной или нет. Человек в черном не появлялся ни на
станции, ни на вокзале в Лондоне, куда я прибыл вечером. Я дошел до дома
пешком, из предосторожности, по самым безлюдным улицам, и останавливался, чтобы
оглянуться назад и подождать, не идет ли кто за мной. Я научился ходить таким
образом в дебрях Центральной Америки, боясь нападения со стороны диких
индейских племен, а теперь делал это с такой же опаской в самом сердце
цивилизованной страны – в Лондоне!
В мое
отсутствие дома все обстояло по-прежнему благополучно. Мэриан засыпала меня
вопросами. Когда я рассказал ей обо всем, она не могла скрыть своего изумления
по поводу моего равнодушия к безуспешности моих расследований.
По
правде сказать, меня мало трогало, что мои расспросы ни к чему не привели. Я
предпринял их из чувства долга и ничего от них не ожидал. В том состоянии, в
котором я тогда находился, меня даже радовало, что все сводилось теперь к
поединку между мной и сэром Персивалем. Чувство мести тоже примешивалось к моим
лучшим чувствам, и признаюсь – я был глубоко удовлетворен тем, что мне
оставался только один путь, самый верный: прижать к стенке негодяя, который
женился на Лоре.
Признаюсь,
я не был настолько самоотвержен, чтобы поставить свою цель над инстинктом
мщения, но, с другой стороны, могу честно сказать, что никаких низких расчетов
на более близкие отношения с Лорой, окажись сэр Персиваль в моих руках, у меня
не было. Я ни разу не сказал себе: «Если я добьюсь своего, муж ее будет уже не
властен отнять ее у меня». Глядя на нее, я не мог и подумать об этом. Печальная
перемена, происшедшая в ней, сосредоточивала мою любовь только на горячем
желании помочь ей; я чувствовал к Лоре нежность и сочувствие, какие могли бы
питать к ней ее отец или брат, и – видит Бог – самоотверженно и
преданно любил ее от всей души. Все мои помыслы и надежды сводились теперь к
одному: к ее выздоровлению. Только бы она снова стала здоровой и счастливой;
только бы хоть раз взглянула на меня по-старому и заговорила со мной, как
говорила когда-то... Это было венцом самых радужных моих надежд и самых
заветных моих желаний.
Я пишу
об этом не для того, чтобы предаваться праздному и бесполезному самоанализу. По
ходу дальнейших событий читатели скоро сами смогут судить о моих чувствах и
поступках. Но справедливость требует, чтобы дурное и хорошее во мне было
описано в равной степени беспристрастно.
На
следующее утро после моего возвращения из Хэмпшира я пригласил Мэриан наверх, в
мою рабочую комнату, и изложил ей свой план относительно того, как лучше всего
разузнать о темном пятне в биографии сэра Персиваля Глайда. Путь к его тайне
вел через непостижимую для нас тайну женщины в белом. Помочь нам приблизиться к
этой тайне могла мать Анны Катерик – миссис Катерик. Ее можно принудить
заговорить. Она будет общительна в зависимости от того, что именно мне удастся
узнать о ней и о ее семейных обстоятельствах, в первую очередь от миссис
Клеменс.
Тщательно
все продумав, я решил связаться с этой верной подругой и покровительницей Анны
Катерик.
Трудность
заключалась в том, как найти миссис Клеменс.
Сообразительность
Мэриан подсказала нам наилучший и наипростейший способ. Она предложила написать
на ферму Тодда, близ Лиммериджа, и спросить, не было ли известий от миссис
Клеменс за последние месяцы. Мы не знали, каким образом миссис Клеменс разлучили
с Анной, но после того, как это случилось, ей, несомненно, пришло в голову
навести справки о своей исчезнувшей подруге в той местности, к которой та была
более всего привязана, – в Лиммеридже и его окрестностях. Предложение
Мэриан было вполне разумным, и она в тот же день отправила письмо миссис Тодд.
Пока мы
ждали ответа, Мэриан рассказала мне все, что знала о семье сэра Персиваля и его
ранней молодости. Она могла говорить об этом только с чужих слов, но была
уверена, что они совпадают с истиной.
Сэр
Персиваль был единственным ребенком в семье. Его отец, сэр Феликс Глайд,
страдал от рождения неизлечимым недугом и с ранних лет избегал общества. Музыка
была его единственной отрадой, и он женился на даме, которая была прекрасной
музыкантшей. Он унаследовал поместье Блэкуотер, когда был молодым человеком. Ни
он, ни его жена не делали никаких попыток примкнуть к обществу соседей, и никто
не нарушал их уединения, кроме единственного человека – приходского
священника, что и привело к печальным результатам.
Священник
был худшим из всех невинных сеятелей раздора – он был слишком ревностен.
До него дошли слухи, что еще в колледже сэр Феликс считался атеистом и чуть ли
не революционером, поэтому он решил, что его долг как священнослужителя
привести заблудшую овцу в стадо, обратить лорда-хозяина на путь истины и
заставить его посещать назидательные проповеди во вверенной пастырю церкви. Сэр
Феликс яростно вознегодовал на это благое, но неуместное намерение и так грубо
оскорбил священника на людях, что в Блэкуотер-Парк посыпались письма с
протестами от соседних помещиков. Даже арендаторы сэра Феликса дерзнули высказать
свое отрицательное отношение к его поступку.
Баронет,
не имевший особой склонности к сельской жизни и не питавший привязанности ни к
поместью, ни к кому-либо из его обитателей, заявил, что соседям не удастся
больше надоедать ему, и уехал навсегда.
После
недолгого пребывания в Лондоне они с женой отправились на континент и никогда
больше не возвращались в Англию. Они жили то во Франции, то в Германии, но всегда
в полном уединении из-за болезненного состояния сэра Феликса. Сын его,
Персиваль, родился за границей и воспитывался у частных наставников. Первой
умерла его мать. Отец его скончался через несколько лет после нее, в 1825 или
1826 году. Сэр Персиваль, будучи еще молодым человеком, приезжал раза два в
Англию. Его знакомство с покойным мистером Филиппом Фэрли завязалось уже после
смерти старого сэра Глайда. Мистер Филипп Фэрли и он быстро стали приятелями,
хотя сэр Персиваль редко бывал в те дни в Лиммеридже. Мистер Фредерик Фэрли,
возможно, встречал его раз или два в обществе своего брата Филиппа, но знал его
очень мало. Единственным близким знакомым сэра Персиваля в семье Фэрли был отец
Лоры.
Вот все
подробности биографии сэра Персиваля, рассказанные мне Мэриан. Сами по себе они
не представляли особого интереса и ничем не могли мне помочь, но я подробно
записал их на случай, если они окажутся небезынтересными в будущем.
Ответ
миссис Тодд (присланный на адрес ближайшей к нам почтовой конторы) уже ждал меня,
когда я туда зашел. Наконец-то нам повезло. Письмо миссис Тодд содержало первые
сведения, нужные и полезные нам.
Как мы и
предполагали, миссис Клеменс действительно написала на ферму Тодда, чтобы
испросить прощения за свой с Анной внезапный отъезд (последовавший после того,
как я встретился с женщиной в белом на лиммериджском кладбище), а затем
уведомляла миссис Тодд об исчезновении Анны. Она горячо просила миссис Тодд
узнать, не появлялась ли ее подруга где-нибудь в окрестностях Лиммериджа. В
своем письме миссис Клеменс указывала адрес, по которому ее всегда можно будет
найти, и этот адрес миссис Тодд теперь пересылала Мэриан. Миссис Клеменс жила в
Лондоне, неподалеку от нас.
Как
говорится в пословице, я был намерен ковать железо, пока горячо. На следующее
утро я пошел к миссис Клеменс. Это был мой первый шаг на пути к настоящему
расследованию. Отсюда начинается история моей отчаянной попытки раскрыть тайну
сэра Персиваля Глайда.
VI
Адрес,
который сообщила миссис Тодд, привел меня к пансиону, находящемуся на спокойной
улице около Грей-Ин-роуд. Когда я постучал, мне открыла сама миссис Клеменс.
Она не узнала меня и спросила, по какому делу я пришел. Я напомнил ей о нашей
встрече на лиммериджском кладбище, при которой присутствовала женщина в белом,
и сказал, что я именно тот человек, который помог Анне Катерик убежать из
сумасшедшего дома, как подтвердила это тогда сама Анна. Только таким путем мог
я завоевать доверие миссис Клеменс. Она вспомнила эти обстоятельства, как
только я заговорил о них, и пригласила меня в гостиную, волнуясь и желая
поскорее узнать, не принес ли я ей какие-нибудь новости об Анне.
Посвящать
постороннего человека в подробности совершенного злодеяния было опасно, и
потому я не мог рассказать ей всю правду. Не подавая ей никаких радужных
надежд, я мог только объяснить ей, что пришел с целью установить, какие именно
люди были ответственны за исчезновение Анны. Чтобы не мучиться в дальнейшем
угрызениями совести, я прибавил, что не надеюсь найти Анну и считаю – мы
больше никогда не увидим ее в живых. Я сказал, что твердо намерен призвать к
ответу двух человек, подозревая их в похищении, – из-за них я и люди,
очень мне близкие, сильно пострадали. После этого я предоставил миссис Клеменс
самой решать, не совпадают ли наши с ней интересы (как бы ни были различны наши
побуждения) и не следует ли ей посвятить меня во все, что она знает по поводу
Анны Катерик.
Бедная
женщина сначала слишком растерялась и разволновалась, чтобы хорошенько понять,
о чем идет речь. В благодарность за мое доброе отношение к Анне она согласилась
рассказать мне все, что знала о ней, попросив меня подсказать, с чего начать,
так как была не очень-то сообразительна, особенно при разговоре с незнакомыми.
Зная,
что людям, не привыкшим последовательно мыслить, проще всего начинать свой
рассказ с самого начала, я попросил миссис Клеменс первым долгом рассказать
мне, что было с ними, когда они уехали из Лиммериджа, и таким образом шаг за
шагом довел ее до момента исчезновения Анны.
Суть ее
рассказа сводилась к следующему.
Уехав с
фермы Тодда, миссис Клеменс и Анна добрались в тот же день до Дерби, где остановились
на неделю из-за нездоровья Анны. Затем они поехали в Лондон и прожили больше месяца
в комнате, которую сняла миссис Клеменс. Но по не зависящим от них
обстоятельствам им вскоре пришлось переменить место своего пребывания. Страх
Анны, что ее обнаружат в Лондоне или его окрестностях, когда они осмеливались
предпринимать прогулки, постепенно сообщился и миссис Клеменс. Она решила
перебраться в один из захолустных городков Англии – в город Гримсби в
Линкольншире, где когда-то жил ее покойный муж. Его родственники, почтенные
люди, жили в этом городе. Они всегда очень хорошо относились к миссис Клеменс,
и она решила, что лучше всего будет поехать туда и посоветоваться с ними. Анна
и слышать не хотела о своем возвращении в Уэлмингам: оттуда увезли ее в
сумасшедший дом, и сэр Персиваль, безусловно, будет искать ее там. Возражение
было серьезным, и миссис Клеменс сочла его вполне основательным.
В
Гримсби впервые проявились признаки болезни Анны. Она заболела после того, как
ей попалось на глаза сообщение о браке леди Глайд, опубликованное в газетах.
Доктор,
за которым послали, осмотрев больную, сразу же нашел у нее серьезную болезнь
сердца. Она болела очень долго и очень измучилась. Сердечные припадки
возобновлялись время от времени с переменной силой. Больше полугода они провели
в Гримсби и, возможно, так бы там и остались, если бы не внезапное решение Анны
вернуться в Хэмпшир, для того чтобы обязательно повидать леди Глайд.
Миссис Клеменс
всеми силами воспротивилась этому неприятному и рискованному намерению. Ничего
не объясняя, Анна твердила о своем предчувствии скорой смерти и о том, что
должна сообщить леди Глайд некую тайну. Ее решение было непоколебимым, и она
заявила миссис Клеменс, что поедет в Хэмпшир одна, если та не захочет
сопровождать ее. Доктор, совета которого спросили, высказал опасение, что, если
желание Анны не будет удовлетворено, болезнь ее, по всей вероятности,
осложнится. Тогда миссис Клеменс поддалась увещаниям Анны и с грустным,
тревожным предчувствием позволила Анне снова поступить по-своему.
На пути
из Лондона в Хэмпшир оказалось, что один из пассажиров, сосед по купе, прекрасно
знает Блэкуотер и его окрестности и может дать все нужные им сведения.
Выяснилось, что им лучше всего остановиться в большой деревне Сандон,
расположенной довольно далеко от имения сэра Персиваля. Расстояние от Сандона
до Блэкуотер-Парка было около трех-четырех миль, и это расстояние туда и
обратно Анна делала каждый раз, когда появлялась у озера.
В
течение нескольких дней, которые они пробыли в Сандоне, не обнаруженные никем
из посторонних, они жили у одной почтенной вдовы, сдававшей приезжим комнаты в
своем коттедже близ деревни. Миссис Клеменс постаралась заручиться согласием
этой женщины молчать об их приезде, во всяком случае, в продолжение первой
недели. Она пробовала убедить Анну удовольствоваться письмом к леди Глайд, но
прежняя неудача с анонимным письмом останавливала Анну. Она не отступала от
своего решения поговорить с леди Глайд лично и обязательно наедине.
Все же
каждый раз, как Анна ходила на озеро, миссис Клеменс шла за ней невдалеке, не
осмеливаясь, однако, приближаться к беседке. Когда Анна в последний раз
вернулась из своего опасного путешествия, она была так измучена длительными
ежедневными переходами и пережитыми волнениями, что случилось то, чего так
опасалась миссис Клеменс. Боли в сердце и другие симптомы сердечной болезни
Анны, имевшей место в Гримсби, вернулись с удвоенной силой в Сандоне –
Анна слегла.
В таких
случаях, как знала миссис Клеменс по опыту, необходимо было, во-первых, успокоить
тревогу Анны. Поэтому на следующий день добрая женщина сама пошла на озеро,
чтобы разыскать леди Глайд (которая, по словам Анны, каждый день приходила в
беседку) и упросить ее пойти с ней в коттедж, к Анне. На опушке леса миссис
Клеменс повстречала не леди Глайд, но высокого, полного, пожилого человека с
книгой в руках, другими словами – графа Фоско. Граф, внимательно посмотрев
на нее, спросил, не ищет ли она здесь встречи с кем-то, и, прежде чем она могла
ответить, прибавил, что он здесь по поручению леди Глайд, но не уверен, что она
именно та особа, с которой ему надлежало повидаться.
Тогда
миссис Клеменс рассказала ему обо всем, умоляя его помочь ей успокоить Анну.
Она, миссис Клеменс, передаст Анне его поручение от леди Глайд. Граф сейчас же
с любезной готовностью согласился на ее просьбу. Поручение было чрезвычайно
важным, сказал он. Леди Глайд убедительно просила Анну и ее подругу немедленно
вернуться в Лондон, опасаясь, что сэр Персиваль откроет их местопребывание,
если они будут оставаться по соседству с Блэкуотер-Парком. Сама леди Глайд
вскоре поедет в Лондон, и, если миссис Клеменс с Анной будут там и сообщат ей
адрес, по которому она сможет их найти, она свяжется с ними недели через две.
Граф прибавил, что он и раньше хотел по-дружески предостеречь Анну, но та
испугалась и убежала.
Миссис
Клеменс в отчаянии ответила ему, что ей и самой хотелось бы вернуться с Анной в
Лондон, но в настоящее время это невозможно, так как Анна лежит больная. Граф
осведомился, посылала ли миссис Клеменс за доктором. Узнав, что она не решилась
этого сделать, не желая предавать огласке их пребывание в деревне, он сказал,
что прекрасно лечит сам и пойдет с ней, если ей угодно, посмотреть, чем можно
помочь Анне. Миссис Клеменс отнеслась к нему, как к человеку, облеченному
доверием леди Глайд, и потому ни на минуту не усомнилась в правдивости его
слов. Она с благодарностью приняла его предложение полечить Анну, и они вместе
отправились в Сандон.
Когда
они пришли, Анна спала. Граф вздрогнул при виде ее, очевидно, пораженный ее
сходством с леди Глайд. Бедная миссис Клеменс решила в простоте души, что
добрый джентльмен разволновался, увидев, как Анна больна. Он не разрешил будить
ее – он удовольствовался тем, что расспросил миссис Клеменс о симптомах
болезни, посмотрел на Анну и тихонько пощупал ее пульс. В Сандоне, довольно
большом поселке, была аптека, и граф отправился туда, чтобы выписать Анне
рецепт и получить лекарство. Он сам принес его и сказал миссис Клеменс, что это
очень сильное средство, которое позволит Анне встать и предпринять утомительную
поездку в Лондон. Лекарство надо было принимать в определенные часы в тот день
и назавтра. На третий день она будет чувствовать себя настолько лучше, что сможет
выехать. Он условился, что встретится с ней и миссис Клеменс на станции в
Блэкуотере и посадит их на поезд. Если они не появятся, он поймет, что Анне
стало хуже, и сейчас же отправится в коттедж близ Сандона.
Как
оказалось в дальнейшем, этого не потребовалось. Лекарство произвело необыкновенное
действие на Анну и дало прекрасные результаты. Помогли также и уверения миссис
Клеменс, что Анна скоро увидится с леди Глайд в Лондоне. Пробыв в Хэмпшире
всего около недели, в назначенный день и час они обе приехали на станцию. Граф
уже ждал их, разговаривая с пожилой дамой, которая, как оказалось, тоже ехала в
Лондон. Он чрезвычайно любезно усадил их в вагон и просил миссис Клеменс не
забыть прислать свой адрес леди Глайд.
Пожилая
дама ехала в другом купе, по дороге они ее не видели и совершенно забыли о ней
в сутолоке лондонского вокзала. Миссис Клеменс сняла комнату в тихом квартале и
затем, как было условлено, отослала леди Глайд свой адрес.
Прошло
более двух недель, но от леди Глайд ответа все не было. К концу этого срока пожилая
дама (та самая, которую они видели на станции) приехала к ним в кебе и сказала,
что леди Глайд прибыла в Лондон, остановилась в отеле и прислала ее за миссис
Клеменс, желая условиться о будущем своем свидании с Анной. Миссис Клеменс
охотно согласилась повидаться с леди Глайд, тем более что Анна горячо молила ее
поехать с пожилой дамой, а отсутствовать миссис Клеменс пришлось бы всего
полчаса. Миссис Клеменс и пожилая дама (конечно, мадам Фоско) уехали. Когда они
отъехали довольно далеко, пожилая дама велела кучеру остановиться около
какого-то магазина и попросила миссис Клеменс подождать, пока она сделает
необходимые покупки. Она ушла и больше не появлялась.
Прождав
некоторое время, миссис Клеменс встревожилась и приказала кучеру ехать обратно.
Когда она вернулась к себе, не пробыв в отсутствии и получаса, Анны уже не
было.
Единственной
из всех домашних, кто мог объяснить ей, в чем дело, была служанка. Она открыла
дверь мальчику-посыльному. Он принес письмо «для молодой женщины, живущей на
втором этаже» (где была квартира миссис Клеменс). Служанка передала письмо в
руки Анне, спустилась вниз и через пять минут увидела, как Анна открыла дверь и
вышла на улицу в капоре и шали. Очевидно, Анна взяла с собой письмо – его
нигде нельзя было найти, и потому было неизвестно, под каким лживым предлогом
ее выманили из дому. Предлог, наверно, был убедительным, потому что Анна
никогда не отважилась бы одна, по собственной воле, выйти на улицу в Лондоне.
Миссис Клеменс была в этом так уверена! Она сама ни за что не уехала бы, пусть
и на короткий срок, если б могла хоть на миг предположить, что Анна посмеет
выйти из дому одна.
Когда
миссис Клеменс достаточно успокоилась, чтобы собраться с мыслями, она решила
навести справки в лечебнице, куда, как она боялась, уже вернули бедную Анну.
Зная адрес лечебницы от самой Анны, на следующий день она поехала туда. Но там
ей сказали (наверно, это было за день или два до того, как туда поместили
мнимую Анну Катерик), что такая женщина к ним не поступала. Тогда миссис
Клеменс написала миссис Катерик в Уэлмингам с просьбой сообщить, не слышала ли,
не видела ли та своей дочери, и получила отрицательный ответ. После этого
миссис Клеменс совершенно растерялась, не зная, куда и к кому еще обратиться и
что предпринять. С того дня и до настоящей минуты миссис Клеменс пребывала в
полной неизвестности; она не могла понять, почему исчезла Анна и чем все это
кончилось.
VII
Пока что
сведения, сообщенные мне миссис Клеменс – хотя это и были факты, доселе
мне неизвестные, – носили всего только подготовительный характер.
Ясно
было, что серия обманов, посредством которых Анну заманили в Лондон и разлучили
с миссис Клеменс, была делом рук графа Фоско и его жены, но вопрос о том, можно
ли было подвергнуть их судебному преследованию за это, оставался открытым.
Цель, которую я имел в виду, вела меня в другом направлении. Я пришел к миссис
Клеменс, чтобы сделать первые шаги к раскрытию тайны сэра Персиваля. Пока что
она не сказала ничего такого, что могло бы приблизить меня к этой цели. Я почувствовал
необходимость пробудить в ней воспоминания о прошлых днях, людях и
происшествиях, о которых она позабыла из-за недавних переживаний, и постарался
направить разговор по нужному мне руслу.
– Я
очень сожалею, что ничем не могу помочь вашему горю, – сказал я. –
Мне остается от всего сердца посочувствовать вам. Родная мать не могла бы
любить Анну сильнее, чем вы ее любили, и так жертвовать собой для нее, как
делали это вы.
– В
этом нет большой заслуги, сэр, – сказала миссис Клеменс. – Бедняжка и
в самом деле была для меня как собственное мое дитя. Я нянчилась с ней, сэр,
когда она была совсем малюткой. Это было нелегким делом. Я бы не привязалась к
ней так, если б не шила ей первых платьиц, не учила ее ходить. Я всегда
говорила, что она послана мне в утешение за то, что у меня самой не было детей.
А теперь, когда ее нет, мне все вспоминаются старые времена, я не могу
удержаться и все плачу, не могу удержаться, сэр!
Я
подождал, чтобы дать миссис Клеменс время справиться со своим горем. Не мерцал
ли свет правды, которого я так долго ждал, в воспоминаниях доброй женщины о
ранних годах Анны – такой слабый свет, мерцавший так далеко!
– Вы
знали миссис Катерик еще до рождения Анны? – спросил я.
– Мы
познакомились незадолго до этого, сэр, месяца за четыре. Мы очень часто
виделись в ту пору, но никогда не были в близких отношениях.
Голос ее
звучал теперь тверже; казалось, для нее было большим облегчением вернуться к
смутным воспоминаниям прошлого, ибо это давало ей возможность позабыть хоть
ненадолго о теперешнем ее глубоком горе.
– Вы
с миссис Катерик были соседями? – спросил я, стараясь поощрять ее
вопросами.
– Да,
сэр, соседями в Старом Уэлмингаме.
– В
Старом Уэлмингаме? Значит, в Хэмпшире есть два города под этим названием?
– Да,
сэр, были в те дни – около двадцати трех лет назад. Позже за две мили от
старого городка выстроили новый город, поближе к реке, а Старый Уэлмингам,
который всегда был чем-то вроде деревни, совсем заглох со временем. Новый город
стал называться просто Уэлмингам, только старая приходская церковь осталась
приходской церковью и поныне. Она стоит совершенно одиноко, дома вокруг
разрушены или сами развалились от ветхости. На моих глазах произошло много
грустных перемен. Когда-то это было приятное, красивое местечко.
– Вы
жили там, миссис Клеменс, до замужества?
– Нет,
сэр, я из Норфолка, а мой муж из Гримсби, как я вам уже говорила. Он работал
там подмастерьем. Но у него были друзья в Саутхэмптоне, и он отправился туда и
затеял там торговлю. Мелочную торговлю, сэр, но сумел скопить достаточно денег
на скромную жизнь и обосновался в Старом Уэлмингаме. Мы с ним переехали туда,
когда поженились. Мы оба были уже немолоды, но жили очень дружно – не так,
как наши соседи, мистер Катерик с женой, когда через год или два после нас они
переехали в Старый Уэлмингам.
– Ваш
муж был знаком с ними и прежде?
– С
Катериком, сэр, не с его женой. Мы оба не знали ее. Какой-то джентльмен помог
Катерику получить место причетника в приходской церкви в Уэлмингаме. По этой
причине он и переехал жить по соседству с нами. Он привез с собой молодую жену.
Через некоторое время мы узнали, что она была горничной в одном семействе,
проживавшем в Варнек-Холле, около Саутхэмптона. Катерик долго добивался, чтобы
она вышла за него, – такая она была высокомерная. Он делал ей предложение
за предложением и наконец, убедившись, что она непреклонна, отчаялся и оставил
ее в покое. И вдруг она сама предложила ему жениться на ней, по-видимому, просто
из духа противоречия. Мой бедный муж всегда говорил, что вот тут-то и надо было
ее проучить. Но Катерик был слишком влюблен в нее, он никогда ни в чем ей не
перечил – ни до свадьбы, ни после. Он был горячим, увлекающимся человеком,
сэр, иногда давал слишком большую волю своим чувствам и быстро терял голову.
Будь на месте миссис Катерик другая женщина, лучше, чем она, он избаловал бы и
ее. Не люблю я плохо отзываться о людях, но миссис Катерик была бессердечной
женщиной, упрямая такая, всегда делала все по-своему, любила хорошо одеваться и
чтоб ею восхищались, а мистеру Катерику платила неуважением и насмешками за его
доброту и хорошее отношение. Когда они стали нашими соседями, мой муж, бывало,
говорил, что они плохо кончат, и его слова сбылись. Не прожили они около нас и
четырех месяцев, как страшный скандал произошел в их семейной жизни. Виноваты
были оба, по-моему. Оба были виноваты.
– Вы
хотите сказать – и муж и жена?
– О
нет, сэр! Я не говорю про Катерика – он, бедняга, был только жалости
достоин. Я говорю про его жену и про...
–...про
человека, из-за которого произошел скандал?
– Да,
сэр. Такой образованный, воспитанный джентльмен, постыдился бы... Вы знаете
его, сэр. И моя бедная милочка Анна знала его слишком хорошо...
– Сэр
Персиваль Глайд?
– Да,
сэр Персиваль Глайд.
Сердце
мое забилось, мне показалось, что ключ от тайны уже в моих руках. Как плохо
знал я тот лабиринт, по которому мне пришлось еще так долго блуждать!
– Сэр
Персиваль жил тогда где-нибудь поблизости? – спросил я.
– Нет,
сэр. Он был не здешний, чужой для всех нас. Отец его умер незадолго до этого в
чужих краях. Помню, сэр Персиваль был в трауре. Он остановился в маленькой
гостинице у реки, где останавливались другие джентльмены, приезжавшие к нам в
городок на рыбалку... Когда он приехал, на него не обратили внимания, это было
обычным делом – много джентльменов приезжали со всех концов страны, чтобы
рыбачить на нашей реке.
– Он
появился до того, как Анна родилась?
– Да,
сэр. Анна родилась в июне 1827 года, а он приехал, по-моему, в конце апреля или
в начале мая.
– Чужой
для всех? И миссис Катерик тоже не знала его, как и остальные?
– Так
мы сначала думали, сэр. Но когда произошел скандал, никто уже не верил, что они
не были раньше знакомы, что они чужие друг другу. Помню, будто вчера это было.
Ночью Катерик бросил горсть песку в наше окошко и разбудил нас. Я услышала, как
он стал просить мужа, ради Бога, сойти вниз для разговора. Они долго
разговаривали на крыльце. Когда мой муж вернулся наверх, он весь дрожал. Он сел
на кровать и говорит мне: «Лиззи! Я всегда говорил, что эта женщина –
скверная женщина, что она плохо кончит, и боюсь, так оно и случилось. Катерик
нашел у нее в комоде множество кружевных носовых платков, и два красивых
кольца, и новые золотые часы с цепочкой. Только настоящая леди может такое
носить, а его жена не хочет признаться, откуда у нее все это». «Может, он считает
ее воровкой?» – говорю я. «Нет, – говорит он, – как это ни
скверно, но то, что она сделала, еще хуже! Ей негде было красть, да она и не стала
бы, не такая она женщина. Хуже! Это подарки, Лиззи: на часах – ее
собственные инициалы, и Катерик сам видел, как она шепталась и секретничала с
этим джентльменом в трауре, с сэром Персивалем Глайдом. Молчите об этом. На
сегодня я успокоил Катерика. Я сказал ему, чтоб он держал язык за зубами, но
смотрел во все глаза да слушал день, два, пока не убедится». «По-моему, вы оба
ошибаетесь, – говорю я. – Чего ради миссис Катерик, живя тут в полном
довольстве и почете, будет путаться с проезжим, с этим сэром Персивалем?» «Э,
да чужой ли он ей? – говорит мой муж. – Вы забыли, как Катерик на ней
женился. Она сама пришла к нему, а раньше все говорила – нет да нет, когда
он предлагал ей повенчаться. Не она первая, не она последняя из тех
безнравственных женщин, что выходят замуж за честных, порядочных мужчин,
которые их любят, чтобы скрыть свой позор. Боюсь, миссис Катерик такая же
негодяйка, как и любая из них. Увидим, – говорит мой муж, – скоро
увидим». Не прошло и двух дней, как мы увидели.
Миссис
Клеменс замолчала на минуту. А я начал сомневаться, правильный ли это путь к
разгадке, ведет ли он к моей цели. Разве могла эта обычная история о мужском
вероломстве и о женской податливости быть ключом к тайне, которая, как страшный
призрак, всю жизнь преследовала сэра Персиваля Глайда?
– Ну,
так вот, сэр, Катерик послушался моего мужа и стал ждать, – продолжала
миссис Клеменс. – Как я вам уже сказала, ждать пришлось недолго. На второй
день он застал свою жену и сэра Персиваля вместе. Они шептались и любезничали в
ризнице старой приходской церкви. По-моему, они, наверно, думали, что никому и
в голову не придет искать их в ризнице, но как бы там ни было, их застали на
месте преступления. Сэр Персиваль, сконфуженный и взволнованный, оправдывался с
таким виноватым видом, что бедный Катерик (я вам уже говорила, как быстро он
терял голову) пришел в исступление и ударил сэра Персиваля. К сожалению, он был
не ровня своему обидчику – тот избил его жесточайшим образом, прежде чем
соседи, услышав ссору, сбежались, чтобы разнять их. Это случилось к вечеру, а к
ночи, когда мой муж пошел к Катерику, того уже не было, и никто не знал, куда
он девался. Ни одна живая душа в деревне не встречала его больше. Он слишком
хорошо понял к тому времени, почему его жене пришлось выйти за него замуж, и
слишком близко принял к сердцу свой позор и несчастье, особенно после того, как
сэр Персиваль избил его. Приходский священник поместил объявление в газете и просил
его вернуться, уверяя, что место осталось за ним и друзья его не покинут. Но
Катерик был слишком гордым, как говорили одни, а по-моему, слишком несчастным,
чтобы снова встретиться с теми, кто знал его и был свидетелем его позора. Он
написал моему мужу, когда уезжал из Англии, и написал еще раз из Америки, где
хорошо устроился. Насколько мне известно, он все еще живет там, но, по всей
вероятности, никто из нас, а тем более его безнравственная жена, никогда не
увидит его больше на родине.
– А
что было потом с сэром Персивалем Глайдом? – спросил я. – Он остался
в Уэлмингаме?
– Нет,
сэр. Все были возмущены его поведением – он это понимал. В ту же ночь, как
произошел скандал, он, по слухам, поспорил о чем-то с миссис Катерик и на
следующее утро уехал.
– А
миссис Катерик? Она, конечно, не осталась жить там, где все знали об этом
скандале.
– Осталась,
сэр. Она была такой бессердечной и бесчувственной, что ни во что не ставила
мнение своих соседей. Она объявила всем, начиная со священника, что стала
жертвой страшной ошибки и что никакие злостные сплетники не заставят ее уехать,
ибо она ни в чем не виновата. В мое время она продолжала жить в Старом
Уэлмингаме, а когда я уехала, и начали строить новый город, и люди побогаче
переселились туда, она тоже переехала, как будто решила жить среди них и
мозолить им глаза до самого конца. Там она и сейчас, там она и останется до
последнего издыхания, не считаясь ни с кем.
– Но
на какие средства она жила все эти годы? – спросил я. – Муж ее был в
состоянии помогать ей и делал это?
– Он
мог и готов был помогать ей, – сказала миссис Клеменс. – Во втором
письме к моему мужу он написал, что, раз она носит его фамилию и живет в его
доме, он не допустит, какой бы скверной она ни была, чтобы она умерла с голоду
на улице, как нищая. Он написал, что в состоянии выплачивать ей небольшое
ежемесячное пособие – она может получать его в банке в Лондоне.
– И
она приняла это пособие?
– Ни
копейки, сэр. Она сказала, что не желает ничем одалживаться Катерику и, проживи
она сотни лет, не примет от него ни копеечки. И она сдержала свое слово. Когда
мой дорогой муж умер, письмо Катерика попало мне в руки, и я сказала ей, чтобы
она дала мне знать, когда будет в нужде. «Вся Англия будет знать, что я в
нужде, – сказала она, – прежде чем я скажу об этом Катерику или его
друзьям. Вот вам мой ответ, и, если вы будете ему писать, так и напишите!»
– Как
по-вашему, у нее были свои средства?
– Если
и были, то очень небольшие, сэр. Говорили, и боюсь, что это было правдой, будто
средства к существованию она получала от сэра Персиваля Глайда.
Услышав
это, я задумался. Мне было ясно, что все это пока что не имело прямого или косвенного
отношения к раскрытию тайны и что мои розыски снова привели меня к очевидной и обескураживающей
неудаче.
И все
же, по сути дела, в рассказе миссис Клеменс было одно несоответствие. Я не мог
принять на веру всю эту историю целиком – за этим несоответствием явно
стояло что-то скрытое и подозрительное.
Мне было
непонятно, почему обесчещенная жена причетника продолжала добровольно жить там,
где все кругом знали о ее бесчестье. Меня не удовлетворяло заявление самой
миссис Катерик, что этим самым она якобы желала доказать свою невиновность. Мне
казалось более естественным и более вероятным, что она не столь независима в
своих поступках, как хотела показать это. В таком случае в чьей власти было
заставить ее остаться в Старом Уэлмингаме? Несомненно, во власти человека,
снабжавшего ее средствами к существованию. Она отказалась от помощи своего
мужа, у нее не было собственных денег, она была одинокой, обесчещенной
женщиной – откуда она могла получать помощь, как не от сэра Персиваля
Глайда?
Рассуждая
таким образом и все время не упуская из виду тот несомненный факт, что тайна
сэра Персиваля была хорошо известна миссис Катерик, мне стало совершенно ясно,
что оставить миссис Катерик на постоянное жительство в Уэлмингаме было
полностью в интересах сэра Персиваля, ибо в силу происшедшего скандала там с
ней никто не общался, она жила обособленно от всех и не могла бы никому
проболтаться в минуту откровенности. Но в чем заключалась тайна, которую так
тщательно скрывали? Разумеется, не в позорной связи сэра Персиваля с обесчещенной
миссис Катерик, так как об этом знали все вокруг, и не в подозрении, что он был
отцом Анны, ибо именно в Уэлмингаме неизбежно должны были это подозревать. Если
бы я принял на веру все, чему верили другие в этой истории, и пришел бы к тому
же поверхностному выводу, как миссис Клеменс и ее соседи, то где во всем этом
был хоть малейший намек на общую тайну сэра Персиваля и миссис Катерик, которую
они тщательно старались спрятать от всех с той самой поры и до сего времени?
И все же
именно в этих встречах украдкой, в этих перешептываниях жены причетника с
«джентльменом в трауре», несомненно, был ключ к разгадке.
Может
быть, по существу дело заключалось в чем-то совершенно ином, нежели это казалось
с первого взгляда? Может быть, миссис Катерик говорила правду, утверждая, что
она стала жертвой недоразумения? Может быть, между ней и сэром Персивалем
существовала связь совершенно иного рода, чем та, которую заподозрили
окружающие, и сэру Персивалю было выгодно поддерживать одно подозрение, чтобы
отвести от себя другое, гораздо более серьезное?
Если б я
мог найти ответ на эти вопросы, я сделал бы первые шаги к разгадке тайны, глубоко
скрытой за довольно обычной историей, только что мной услышанной.
Я задал
вопрос с целью выяснить, уверен ли был сам мистер Катерик в измене своей жены.
Ответ миссис Клеменс не оставлял сомнения в этом. Будучи еще не замужем, миссис
Катерик скомпрометировала себя с каким-то неизвестным человеком и вышла замуж,
чтобы скрыть свой позор. Путем сопоставления дат было совершенно ясно, что
мистер Катерик не был отцом ее дочери Анны, хотя Анна и носила его фамилию.
Гораздо
труднее было рассеять возникавшее теперь сомнение: можно ли с уверенностью
считать сэра Персиваля Глайда отцом Анны Катерик?
Сделать
это было возможно, только выяснив, похожи они друг на друга или нет.
– Вы,
наверно, часто видели сэра Персиваля, когда он бывал в вашей деревне? –
сказал я.
– Да,
сэр, очень часто, – отвечала миссис Клеменс.
– Была
ли Анна похожа на него?
– Нет,
они были совершенно не похожи.
– Значит,
она была похожа на мать?
– Она
и на мать была совсем не похожа. Миссис Катерик была темноволосая, с полным лицом.
Не
похожа ни на мать, ни на предполагаемого отца. Я знал, что нельзя всецело
полагаться на личное сходство, однако, с другой стороны, начисто отрицать его
значение тоже было неразумным. Что из прошлого сэра Персиваля Глайда или миссис
Катерик до их появления в Старом Уэлмингаме могло бы пролить свет на этот
вопрос? Я имел это в виду и спросил миссис Клеменс.
– Когда
сэр Персиваль появился у вас в деревне, – сказал я, – вы не знаете,
откуда он тогда приехал?
– Нет,
сэр. Кто говорил – из Блэкуотер-Парка, кто говорил – из Шотландии, но
никто по-настоящему не знал.
– А
миссис Катерик до своего замужества жила в Варнек-Холле?
– Да,
сэр.
– Сколько
лет она прослужила там?
– Три
или четыре года, сэр. Точно не помню.
– Вы,
случайно, не знаете, кому в то время принадлежал Варнек-Холл?
– Знаю,
сэр. Майору Донторну.
– А
не приходилось ли вам слышать от мистера Катерика или еще от кого-нибудь, был
ли сэр Персиваль знаком с майором Донторном, бывал ли он в Варнек-Холле или
где-нибудь по соседству?
– Нет,
сэр. Насколько я помню, ни Катерик, ни кто-либо другой никогда не говорили об
этом.
Я
записал фамилию и адрес майора Донторна на случай, если он еще жив и в будущем
мне понадобится обратиться к нему. Пока что у меня составилось определенное
впечатление, что сэр Персиваль отнюдь не был отцом Анны и что его тайное
свидание с миссис Катерик в церковной ризнице никоим образом не было связано с
бесчестьем, которое миссис Катерик навлекла на доброе имя своего мужа. Я не мог
придумать, какими фактами подкрепить мою уверенность, и только попросил миссис
Клеменс рассказать про детство Анны, настороженно выжидая, не получу ли я таким
путем нужные мне подтверждения.
– Вы
мне еще не рассказали, миссис Клеменс, как это бедное дитя, рожденное среди
несчастья и позора, очутилось на вашем попечении, – сказал я.
– Некому
было нянчиться с бедной, беспомощной малюткой, сэр, – просто ответила
миссис Клеменс. – Злая мать ненавидела бедную девочку со дня ее рождения,
как будто ребенок был чем-то виноват! У меня сердце на части разрывалось при
виде ее, и я решила любить и воспитывать ее, как свою дочь.
– С
тех пор Анна была всецело на ваших руках?
– Не
совсем так, сэр. Иногда на миссис Катерик находили разные причуды и фантазии, и
она забирала у меня ребенка, будто назло мне за то, что я ее воспитываю. Но эти
причуды никогда долго не продолжались. Бедная маленькая Анна всегда
возвращалась ко мне и всегда была рада вернуться, хотя и у меня в доме она жила
одиноко и ей не с кем было играть, как играли между собой другие дети. Вот
когда мать увезла ее в Лиммеридж, мы с Анной разлучились надолго. Вскоре после
этого умер мой бедный муж, и я даже рада была, что Анны во время этого
несчастья не было у нас в доме. Ей было тогда около десяти или одиннадцати.
Учение давалось ей с большим трудом. Бедная крошка, она была невеселая, не
такая, как другие дети в ее возрасте, но очень хорошенькая и милая девочка! Я
подождала в Уэлмингаме их возвращения и предложила взять ее с собой в Лондон;
по правде сказать, сэр, мне было тяжело оставаться в Старом Уэлмингаме после
смерти мужа – все изменилось вокруг меня, все мне было не по сердцу.
– И
миссис Катерик согласилась на ваше предложение?
– Нет,
сэр. Она вернулась из Камберленда еще бессердечнее и озлобленнее, чем была. Люди
говорили, что ей пришлось отпрашиваться у сэра Персиваля – просить
разрешения уехать. Она будто бы потому поехала к своей умирающей сестре, что
надеялась получить наследство, а на самом деле денег хватило только на
похороны. Все это, конечно, озлобило миссис Катерик, – во всяком случае,
она и слушать не хотела, чтобы я увезла с собой девочку. Казалось, ее очень
тешило, что предстоящая разлука так огорчает нас с Анной. Я могла только
оставить девочке свой адрес и сказать ей по секрету, что, если она когда-нибудь
будет в беде, пусть приезжает прямо ко мне в Лондон. Но прошло много лет,
прежде чем она ко мне приехала. Я не видела ее до той самой ночи, когда она
убежала из сумасшедшего дома, бедняжка.
– Вы
знаете, миссис Клеменс, почему сэр Персиваль Глайд поместил ее туда?
– Об
этом я знаю только из рассказов самой Анны, а она, бедная, никогда толком
ничего не могла рассказать. Она говорила, что мать ее хранит какую-то тайну
сэра Персиваля. Долгое время спустя после того, как я уехала из Хэмпшира,
миссис Катерик выдала эту тайну Анне, а когда сэр Персиваль узнал об этом, он и
запер Анну в сумасшедший дом. Но когда я ее спрашивала, она не могла сказать,
что это за тайна. Она говорила только, что если мать ее захочет, то может
погубить сэра Персиваля на всю жизнь. Миссис Катерик, может быть, проговорилась
ей, что знает о чем-то, и только. Я уверена, что если б Анна действительно
знала какую-то тайну, как ей мерещилось, я услышала бы от нее всю правду. Ей
только казалось, что она знает ее, и она верила в это, а на самом деле не знала
ничегошеньки, бедняжка.
Мысль
эта много раз приходила мне в голову. Я уже говорил Мэриан о своих сомнениях по
поводу того, что Лора действительно была на пороге какого-то важного открытия,
когда граф Фоско помешал ее разговору с Анной Катерик в беседке. На основании
смутного подозрения, вызванного намеками, неосторожно высказанными ее матерью в
присутствии Анны, та решила, что знает всю тайну сэра Персиваля. Это было
характерно для ее смятенного рассудка. Нечистая совесть сэра Персиваля
неизбежно должна была подсказать ему ошибочное мнение, что Анна узнала всю
правду от матери, а позднее в его мозгу родилась необоснованная уверенность,
что Анна Катерик рассказала обо всем его жене.
Время
шло, утро пролетело незаметно. По всей вероятности, миссис Клеменс не могла мне
больше рассказать ничего полезного для решения моей задачи. Теперь я уже
разузнал нужные мне подробности жизни миссис Катерик и пришел к некоторым
выводам, неожиданным и новым для меня, которые могли чрезвычайно помочь мне в
дальнейшем.
Я встал,
чтобы попрощаться и поблагодарить миссис Клеменс за дружеское отношение и за
то, что она так охотно поделилась со мной своими воспоминаниями.
– Боюсь,
я показался вам очень любопытным, – сказал я. – Я задал вам столько
вопросов, что другому надоело бы на них отвечать.
– Я
охотно рассказала вам все, что знала сама, сэр, – отвечала миссис Клеменс.
Она помолчала, тоскливо глядя на меня. – Но мне хотелось бы, –
сказала бедная женщина, – чтобы вы рассказали мне побольше про Анну, сэр.
Мне показалось по вашему лицу, когда вы вошли, что вам есть что рассказать. Вы
не можете себе представить, как тяжело не знать даже о том, жива она или
умерла. Если б я знала, что с ней, мне было бы легче. Вы сказали, что не
надеетесь увидеть ее в живых. Может, вы знаете, сэр, может, вы вправду знаете,
что Господу Богу было угодно взять ее к себе?
Я не мог
устоять перед этой мольбой, было бы жестоко, если б я скрыл от нее правду.
– Боюсь,
что это так, – мягко ответил я. – Я уверен, что несчастья ее на этой
земле уже окончились.
Бедная
женщина упала на стул и спрятала от меня лицо.
– О,
сэр, – сказала она, – откуда вы знаете? Кто вам сказал?
– Никто
мне не сказал, миссис Клеменс, но у меня есть основания быть уверенным в этом,
основания, о которых я обещаю рассказать вам, когда смогу. Я уверен, что в
последние минуты она не была брошена на произвол судьбы, я уверен, что
сердечная болезнь, которая долго ее мучила, была истинной причиной ее смерти.
Скоро я расскажу вам об этом во всех подробностях. Она похоронена на тихом
сельском кладбище, в красивом мирном уголке, который вы выбрали бы для нее
сами.
– Умерла! –
сказала миссис Клеменс. – Она, такая молодая, умерла, а я жива и слышу
это! Я шила ей первые платьица, я учила ее ходить! В первый раз, когда она
произнесла «мама», она сказала это мне, а теперь я живу, а ее нет!.. Вы
говорили, – сказала бедная женщина, отнимая платок от лица и поднимая на
меня заплаканные глаза, – вы, кажется, говорили, что похороны были
хорошие? Такие похороны, какие я устроила бы ей сама, как для родной своей
дочери?
Я уверил
ее, что похороны были именно такие. Казалось, мои слова обрадовали ее и несколько
смягчили ее безыскусственное горе, чего, пожалуй, не могли бы сделать самые
красноречивые соболезнования.
– У
меня сердце разорвалось бы, – сказала она простодушно, – если б Анну
похоронили не так... Но откуда вы знаете, сэр? Кто рассказал вам?
Я снова
попросил ее подождать, пока не смогу говорить с ней с полной откровенностью.
– Вы
меня еще увидите, – сказал я. – Я хочу попросить вас об одном
одолжении – после, через день-два, когда вы немного успокоитесь.
– Не
откладывайте из-за меня, сэр, если я могу быть полезна, – промолвила
миссис Клеменс, – не смотрите, что я плачу. Если хотите сказать мне
что-нибудь, сэр, говорите сейчас.
– Я
хотел только попросить вас о последнем одолжении, – сказал я, – не
дадите ли вы мне адрес миссис Катерик в Уэлмингаме?
Моя
просьба так удивила миссис Клеменс, что на минуту она, казалось, забыла даже о
своем горе. Слезы перестали струиться по ее щекам, и она озадаченно взглянула
на меня.
– Ради
Господа Бога, сэр! – воскликнула она. – Что вам надо от миссис
Катерик?
– Я
хочу, миссис Клеменс, – отвечал я, – узнать причину ее тайных
свиданий с сэром Персивалем Глайдом. В поведении этой женщины и в прошлых
отношениях с ней этого человека кроется нечто совсем иное, нежели то, что
подозревали вы и ваши соседи. У этих двух есть тайна, не известная никому, и я
еду к миссис Катерик с решением узнать всю правду.
– Не
торопитесь, сэр! Хорошенько подумайте над этим, сэр! – сказала миссис
Клеменс, вставая со стула и предостерегающим жестом положив мне руку на
плечо. – Она ужасная женщина! Вы не знаете ее, сэр, а я-то хорошо знаю.
Подумайте еще, сэр!
– Я
знаю, вы искренне желаете мне добра, миссис Клеменс. Но я решил повидать эту женщину –
будь что будет.
Миссис
Клеменс взволнованно, пристально посмотрела мне в лицо.
– Вижу,
что ваше решение принято, – сказала она. – Я дам вам адрес.
Я
записал адрес в свою записную книжку и взял ее руку, чтобы попрощаться.
– Скоро
я навещу вас, – сказал я, – и расскажу вам все, что обещал.
Миссис
Клеменс глубоко вздохнула и сокрушенно покачала головой.
– К
совету старой женщины стоит прислушаться, сэр, – сказала она. –
Подумайте хорошенько, прежде чем ехать в Уэлмингам.
VIII
Когда я
вернулся домой после разговора с миссис Клеменс, я сразу увидел, что в Лоре произошла
какая-то перемена.
Неизменные
кротость и терпение, которые во время ее несчастья подвергались суровому
испытанию, казалось, вдруг изменили ей. Безучастная ко всем попыткам Мэриан
успокоить и развеселить ее, она сидела, отодвинув от себя рисунки, печально
опустив глаза, уронив руки на колени, без устали перебирая пальцами. При виде
меня Мэриан встала с выражением молчаливого отчаяния, подождала с минуту, не
поднимет ли Лора глаза мне навстречу, шепнула мне:
– Может
быть, вы сумеете расшевелить ее! – и вышла из комнаты.
Я сел на
освободившийся стул, ласково разнял бедные изможденные неугомонные пальцы и
взял обе ее руки в свои.
– О
чем вы думаете, Лора? Скажите мне, дорогая, соберитесь с силами и расскажите
мне, в чем дело.
Она с
трудом поборола свое настроение и взглянула на меня.
– Я
не могу быть счастливой, – сказала она, – я не могу не думать...
Она
умолкла, подалась немного вперед и положила голову мне на плечо с выражением
немой беспомощности, которая пронзила мое сердце жалостью.
– Скажите
мне, – мягко повторил я, – попробуйте, расскажите мне, почему вы
несчастливы.
– От
меня нет никакой пользы – я в тягость вам обоим, – отвечала она с
глубоким усталым вздохом. – Вы работаете, Уолтер, и зарабатываете деньги,
а Мэриан вам помогает. Так почему же я ничего не делаю? Кончится тем, что
Мэриан понравится вам больше, чем я, вот увидите, потому что я такая никчемная.
О, не надо, не надо обращаться со мной как с ребенком!
Я поднял
ее голову, пригладил белокурые спутанные волосы, упавшие на лицо, и поцеловал
ее – мой бедный увядший цветок! Моя бедная, скорбная сестра!
– Вы
будете помогать нам, Лора, – сказал я. – Вы начнете с сегодняшнего
дня, дорогая.
Она
посмотрела на меня с таким жадным интересом, затаив дыхание от нетерпения и любопытства,
что я задрожал от радости, увидев, как при этих словах новая жизнь и новые
надежды воскресли в ее сердце.
Я встал,
привел в порядок ее рисовальные принадлежности и придвинул их к ней.
– Вы
знаете, что я зарабатываю деньги рисованием, – сказал я. – Вы много
потрудились и стали рисовать уже гораздо лучше – вы тоже начнете этим
зарабатывать. Постарайтесь закончить этот рисунок как можно старательнее и
лучше. Когда он будет готов, я возьму его с собой и тот же самый человек,
который покупает мои рисунки, купит и ваш. Вы будете собирать деньги в свой
собственный кошелек, и Мэриан будет брать у вас на расходы так же часто, как
берет у меня. Подумайте, как вы будете полезны, как вы поможете нам, и скоро вы
станете счастливой, Лора, вам будет легко и радостно!
Она вся
просияла, лицо ее озарилось улыбкой. В ту минуту, когда она, улыбаясь, схватила
свой отодвинутый ранее карандаш, она выглядела почти как Лора прежних дней.
Я
правильно истолковал первые признаки ее выздоровления. Они выражались в том,
что Лора наконец стала отдавать себе отчет в занятиях, которыми были наполнены
наши с Мэриан дни. Когда я рассказал об этом Мэриан, она, как и я, поняла, что
Лоре страстно хочется занять какое-то место в жизни, подняться в собственных и
в наших глазах, завоевать наше уважение, и с этого дня мы с нежностью
поддерживали ее честолюбие. Оно вселяло в нас надежду на ее полное
выздоровление, на счастливое будущее, которое, возможно, было теперь не за
горами. Ее рисунки, когда она заканчивала их или думала, что закончила,
переходили в мои руки, а я отдавал их Мэриан, которая их прятала. Я, их
единственный покупатель, еженедельно откладывал небольшие суммы из моего
заработка, чтобы вручать Лоре как денежное вознаграждение за беспомощные,
робкие наброски. Иногда нам бывало трудно сохранять полную невозмутимость и не
выдать нашу невинную ложь, когда она с довольной улыбкой, сияя гордостью,
вынимала свой кошелек, чтобы внести свою часть на домашние расходы, и очень
серьезно интересовалась, кто из нас больше заработал за эту неделю. Все эти
рисунки хранятся у меня – мои бесценные сокровища, дорогие воспоминания,
которые я любовно берегу и буду беречь всю жизнь, – это мои друзья в
прошлом несчастье, дорогие друзья, с которыми сердце мое никогда не
расстанется, которых нежность моя никогда не позабудет.
Не
отвлекаюсь ли я сейчас от моей основной цели? Не теряю ли я драгоценное время?
Не мерещится ли мне счастливое будущее, до которого так далеко в моем
повествовании? Да. Назад! Вернемся к дням сомнений и тревог, когда я изо всех
сил старался не терять присутствия духа в борьбе с леденящим безмолвием вечной
неизвестности. Я приостановился отдохнуть на минуту. И если друзья, которые
читают эти страницы, тоже отдохнули вместе со мной, время не потеряно.
Я
воспользовался первой же возможностью поговорить с Мэриан наедине и рассказать
ей о результатах моих утренних расследований. Оказалось, она разделяет тревогу
миссис Клеменс по поводу моего намерения поехать в Уэлмингам.
– Уолтер, –
сказала она, – вы слишком мало знаете для того, чтобы рассчитывать на откровенность
миссис Катерик. Разумно ли идти на эту крайность, не испробовав более простые и
надежные средства для достижения вашей цели? Когда вы сказали мне, что только
два человека на свете знают точную дату отъезда Лоры из Блэкуотер-Парка, вы
забыли и я забыла, что есть еще третий человек, который знает это число, –
я говорю о миссис Рюбель. Не проще ли и безопаснее настоять на ее откровенном
признании, чем силой принуждать к нему сэра Персиваля?
– Это
было бы проще, – возразил я. – Но нам неизвестно, в какой мере миссис
Рюбель причастна к этому преступлению и посвящена ли она в его подробности,
поэтому мы не можем с уверенностью сказать, помнит ли она эту дату, как,
бесспорно, помнят ее сэр Персиваль и граф. Не стоит тратить время на миссис
Рюбель – драгоценное время, необходимое нам для того, чтобы найти уязвимое
место в биографии сэра Персиваля. Не преувеличиваете ли вы, Мэриан, опасность,
подстерегающую меня в Хэмпшире? Или вы думаете, что в конечном результате
борьба с сэром Персивалем окажется мне не под силу, и сомневаетесь, что он
встретит во мне достойного противника?
– Вы
справитесь с ним, – отвечала она решительно, – ибо граф с его
непостижимой аморальностью не будет помогать сэру Персивалю в поединке с вами.
– Почему
вы так думаете? – спросил я, несколько изумленный.
– Мне
хорошо известны упрямство сэра Персиваля и его нетерпимость к советам
графа, – отвечала она. – Думаю, что ему захочется встретиться с вами
один на один; он настоит на этом так же, как в Блэкуотер-Парке, когда он
действовал на свой собственный страх и риск. Время для вмешательства графа
настанет, когда сэр Персиваль будет полностью в ваших руках. Граф выступит,
если его собственные интересы будут затронуты, и, защищая их, он будет
беспощаден, Уолтер.
– Мы
сможем обезопасить его заранее, – сказал я. – Некоторые сведения,
которые сообщила мне миссис Клеменс, серьезно компрометируют графа. В нашем
распоряжении есть и кое-какие другие факты, говорящие против него. В отчете
миссис Майклсон имеются строки о том, что граф счел необходимым повидаться с
мистером Фэрли. Возможно, и тут мы найдем компрометирующие его обстоятельства.
Когда я буду в отъезде, Мэриан, напишите мистеру Фэрли и настоятельно попросите
его прислать нам подробный отчет обо всем, что произошло между ним и графом при
их свидании, а также о том, что ему известно о болезни и смерти его племянницы.
Прибавьте, что необходимый вам отчет рано или поздно ему все равно придется
написать, если он проявит неохоту пойти навстречу вашей просьбе добровольно.
– Хорошо,
Уолтер. Но вы бесповоротно решили поехать в Уэлмингам?
– Твердо
решил. Следующие три дня я посвящу рисованию, чтобы заработать денег на целую
неделю вперед, и тогда поеду в Хэмпшир.
Через
три дня я был готов отправиться в путь.
Мне
пришлось бы, возможно, задержаться в Хэмпшире на некоторое время, поэтому мы с
Мэриан условились писать друг другу ежедневно, конечно, из
предосторожности – под вымышленными именами. Если я буду регулярно
получать от нее известия, значит, все обстоит благополучно. Но если в какое-то
утро я не получу от нее письма, я с первым же поездом вернусь в Лондон. Я сумел
примирить Лору с моим отъездом, сказав ей, что еду искать нового покупателя для
наших с ней рисунков, и оставил ее за работой вполне довольную.
Мэриан
проводила меня вниз, до двери.
– Помните
о любящих сердцах, которые вы оставляете здесь, – шепнула она, когда мы были
в коридоре у выхода. – Помните обо всех упованиях, связанных с вашим
благополучным возвращением. Если что-нибудь приключится с вами, если вы с сэром
Персивалем встретитесь...
– Почему
вы думаете, что мы встретимся? – спросил я.
– Не
знаю. Мне в голову приходят всякие бредовые мысли и страхи, в которых я не могу
отдать себе отчета. Смейтесь над ними, если хотите, Уолтер, но, ради Бога,
держите себя в руках, когда будете стоять лицом к лицу с этим человеком!
– Не
бойтесь, Мэриан! Я ручаюсь за свое самообладание.
На этом
мы расстались.
Я быстро
пошел на вокзал. Надежда пела во мне. Во мне росла уверенность, что на этот раз
я предпринимаю путешествие не напрасно. Было ясное холодное утро. Нервы мои
были напряжены, и я чувствовал, как моя решимость наполняет всего меня
бодростью и силой.
Когда я
прошелся по вокзальной платформе и осмотрелся в поисках знакомых мне лиц среди
толпы, ожидавшей поезда, я подумал, не лучше ли было бы мне переодеться и
загримироваться, прежде чем ехать в Хэмпшир.
Но в
этой мысли было нечто отвратительное, напоминающее о доносчиках и шпионах, для
которых переодевание является необходимостью, и я тут же отогнал ее от себя.
Кроме того, целесообразность этого переодевания тоже была сомнительной. Если б
я попробовал сделать это дома – домовладелец, бесспорно, узнал бы меня, и
это мгновенно возбудило бы его подозрение. Если б я попробовал выйти переодетым
на улицу – меня могли узнать какие-нибудь знакомые, и тем самым я снова
возбудил бы подозрение. До сих пор я действовал, не прибегая ни к какому
переодеванию, и решил действовать так и впредь. Поезд доставил меня в Уэлмингам
к полудню. Какая дикая пустыня Аравии, какие унылые развалины где-нибудь в
Палестине могли бы соперничать с отталкивающим видом и гнетущей скукой
английского провинциального городка в первой стадии его существования и на
переходной ступени его благополучия? Я задавал себе этот вопрос, когда проходил
по безупречно чистым, невыносимо уродливым, безлюдным улицам Уэлмингама. И
лавочники, глазевшие на меня из своих пустынных лавок, и деревья, уныло никшие
в безводном изгнании запущенных садиков и скверов, и мертвые каркасы домов,
напрасно ждущие животворного человеческого присутствия, – все, кто
попадался мне навстречу, все, мимо чего я проходил, казалось, отвечали мне
хором: пустыни Аравии не столь мертвы, как наши цивилизованные пустыни,
развалины Палестины не столь унылы, как иные города Англии!
Путем
расспросов я добрался до той части города, где жила миссис Катерик, и очутился
на небольшой площади, по сторонам которой тянулись маленькие одноэтажные дома.
Посреди площади был безрадостный участок земли, покрытый чахлой травой и
окруженный проволочной изгородью. Пожилая нянька с двумя детьми стояла в
скверике и смотрела на тощую козу, щипавшую травку. Двое мужчин разговаривали
на тротуаре по одну сторону площади, а по противоположной стороне
бездельник-мальчишка вел на веревочке бездельницу-собачонку. Я услышал, как
глухо тренькало фортепьяно где-то вдали, под аккомпанемент непрерывного стука
молотка где-то вблизи. Вот единственные признаки жизни, замеченные мною, когда
я вышел на площадь.
Я
направился прямо к двери дома номер тринадцать, где жила миссис Катерик, и
постучал, не раздумывая над тем, как представиться хозяйке, когда я войду.
Необходимо было повидать миссис Катерик – это было главное. А затем, судя
по обстоятельствам, как можно осторожнее и успешнее попытаться достичь цели
моего визита.
Унылая
пожилая служанка открыла мне дверь. Я дал ей мою визитную карточку и спросил,
могу ли я видеть миссис Катерик. Служанка отнесла куда-то мою визитную карточку
и вернулась узнать, по какому делу я пришел.
– Пожалуйста,
передайте, что я пришел по делу, касающемуся дочери миссис Катерик, –
отвечал я.
Это был
самый подходящий предлог для визита, который я мог придумать в ту минуту.
Служанка
снова куда-то пошла, снова вернулась и на этот раз попросила меня войти в гостиную,
глядя на меня угрюмо и озадаченно. Я вошел в маленькую комнатку, оклеенную кричащими,
безвкусными обоями. Стулья, столы, шифоньеры и софа – все блестело клейкой
яркостью дешевой обивки. На большом столе посреди комнаты, на вязаной красной с
желтым салфеточке, лежала нарядная большая Библия, а у окна, возле маленького
столика, с корзиночкой для вязанья на коленях, с дряхлой пучеглазой болонкой у
ног сидела пожилая женщина в черном тюлевом чепце, в черном шелковом платье, в
темно-серых вязаных митенках. Ее черные с проседью волосы свисали тяжелыми
локонами по обе стороны лица, темные глаза смотрели прямо перед собой сурово,
недоверчиво, неумолимо. У нее были полные, квадратные щеки, выдающийся твердый
подбородок и пухлый, чувственный, бледный рот. Фигура у нее была полная,
крепкая. Она держалась с вызывающей невозмутимостью. Это была миссис Катерик.
– Вы
пришли говорить со мной о моей дочери, – сказала она, прежде чем я успел
что-либо сказать. – Будьте добры, объясните, о чем, собственно, вы хотите
говорить.
Голос ее
был таким же суровым, недоверчивым и неумолимым, как и выражение ее глаз. Она
указала на стул и, когда я садился, с головы до ног внимательно оглядела меня.
Я понял, что с этой женщиной надо разговаривать в таком же тоне, как
разговаривает она. С самого начала необходимо было поставить себя на равную ногу
с ней.
– Вам
известно о том, что ваша дочь бесследно пропала?
– Я
знаю об этом.
– Вы,
вероятно, предполагали, что это несчастье может привести к другому
несчастью – к ее смерти?
– Да.
Вы пришли сказать мне, что она умерла?
– Да.
– Почему?
Она
задала мне этот удивительный вопрос тем же тоном, с тем же выражением лица, с
прежним хладнокровием. Ничто не изменилось в ней. Она держалась так же
невозмутимо, как если б я сказал ей, что в сквере сдохла коза.
– Почему? –
повторил я. – Вы спрашиваете, почему я пришел сюда сказать вам о смерти
вашей дочери?
– Да.
Какое вам дело до меня? Каким образом вы вообще знаете о моей дочери?
– Следующим
образом: я встретил ее на дороге, в ту ночь, когда она убежала из лечебницы, и
помог ей скрыться.
– Вы
поступили очень дурно.
– Мне
очень жаль, что так говорит ее мать.
– Так
говорит ее мать. Откуда вы знаете, что она умерла?
– Пока
что я не могу ответить на этот вопрос, но знаю, что ее нет в живых.
– А
ответить, откуда вы узнали мой адрес, вы можете?
– Конечно.
Я узнал ваш адрес от миссис Клеменс.
– Миссис
Клеменс – глупая женщина! Это она посоветовала вам приехать сюда?
– Нет.
– В
таком случае я снова вас спрашиваю: почему вы сюда приехали?
Поскольку
она настойчиво требовала ответа, я ответил ей самым прямым образом.
– Я
приехал, – сказал я, – предполагая, что мать Анны Катерик,
безусловно, желает знать, жива ее дочь или нет.
– Так-так... –
сказала миссис Катерик еще более невозмутимо. – Другой причины у вас не
было?
Я
заколебался. Нелегко было мгновенно найти подходящий ответ на этот вопрос.
– Если
другой причины у вас не было, – продолжала она, спокойно снимая свои
темно-серые митенки и складывая их, – я могу только поблагодарить вас за
визит и сказать, что больше вас не задерживаю. Ваше сообщение было бы более
удовлетворительным, если бы вы объяснили, каким образом вы его получили. Во
всяком случае, оно может служить мне оправданием для облачения в траур. Как
видите, мне не придется делать для этого большие изменения в моем туалете.
Когда я сменю митенки, я буду вся в черном.
Она
пошарила в кармане своего платья, вынула пару черных митенок, с каменным, суровым
лицом надела их, а затем спокойно сложила руки на коленях.
– Итак,
всего хорошего, – сказала она. Ледяное презрение, сквозившее в ее манерах,
побудило меня признать, что цель моего визита еще не достигнута.
– Я
приехал еще и по другой причине, – сказал я.
– А!
Я так и думала, – заметила миссис Катерик.
– Смерть
вашей дочери...
– От
чего она умерла?
– От
болезни сердца.
– Так.
Продолжайте.
– Смерть
вашей дочери дала возможность причинить серьезный, страшный ущерб человеку,
очень мне близкому, и виновниками этого злодеяния, как мне стало известно, были
двое людей. Один из них – сэр Персиваль Глайд.
– Вот
как!
Я
внимательно смотрел на нее, чтобы увидеть, не вздрогнет ли она при внезапном
упоминании его имени. Но ни один мускул в ее лице не дрогнул. Она смотрела
прямо мне в глаза, по-прежнему сурово, недоверчиво и неумолимо.
– Вам,
может быть, интересно, – продолжал я, – каким образом смерть вашей
дочери могла стать орудием этого злодеяния?
– Нет! –
сказала миссис Катерик. – Мне совсем неинтересно. Это ваше дело. Вы
интересуетесь моими делами – я не интересуюсь вашими.
– А
вы не спросите, почему я говорю об этом в вашем присутствии? – настаивал
я.
– Да.
Я спрашиваю.
– Я
говорю об этом с вами, ибо твердо решил призвать сэра Персиваля к ответу за
содеянное им злодеяние.
– Какое
мне дело до этого?
– Вы
сейчас узнаете. В прошлом сэра Персиваля есть некоторые происшествия, с
которыми мне необходимо познакомиться. Вы их знаете, поэтому я пришел к вам.
– О
каких происшествиях вы говорите?
– О
происшествиях, имевших место до рождения вашей дочери, в Старом Уэлмингаме, когда
ваш муж был причетником тамошней приходской церкви.
Барьер
непроницаемой сдержанности, который она воздвигала между нами, рухнул. Я увидел,
что глаза ее злобно сверкнули, а руки начали беспокойно разглаживать платье на
коленях.
– Что
вы знаете об этих происшествиях? – спросила она.
– Все,
что могла рассказать мне о них миссис Клеменс, – отвечал я.
На
мгновение ее холодное, суровое лицо вспыхнуло, руки замерли, – казалось,
взрыв гнева готов был вывести ее из равновесия. Но нет, она поборола свое
растущее раздражение, откинулась на спинку стула, скрестила руки на своей
широкой груди и с саркастической улыбкой посмотрела мне в глаза с прежней
невозмутимостью.
– А!
Теперь я начинаю все понимать, – сказала она. Ее укрощенный гнев
проявлялся только в нарочитой насмешливости ее тона. – Вы имеете зуб
против сэра Персиваля и хотите отомстить ему с моей помощью. Я должна
рассказать вам и то, и это, и все прочее о сэре Персивале и о самой себе, не
так ли? Да неужели? Вы суете нос в мои личные дела. Вы думаете, что перед вами
женщина с погибшей репутацией, живущая здесь с молчаливого и презрительного
согласия окружающих, которая согласится сделать все, что бы вы ни попросили, от
страха, что вы можете уронить ее в глазах ее сограждан. Я вижу вас
насквозь – вас и ваши расчеты. О да! И меня это смешит. Ха-ха!
Она на
минуту умолкла, руки ее напряглись, и она засмеялась – глухо, грубо, злобно.
– Вы
не знаете, как я жила здесь и что я здесь делала, мистер как-бишь-вас? –
продолжала она. – Я расскажу вам, прежде чем позвоню и прикажу выгнать вас
вон. Я приехала сюда обиженной и униженной – приехала сюда, потеряв свое
доброе имя, с твердой решимостью обрести его вновь. Прошли многие годы – и
я обрела его. Я всегда держалась как равная с самыми почтенными лицами в
городе. Если они и говорят что-либо про меня, они говорят об этом тайно, за
моей спиной, они не могут, не смеют говорить об этом открыто. Моя репутация
незыблема в этом городе, и вам не удастся ее пошатнуть. Священник здоровается
со мной. Ага! Вы на это не рассчитывали, когда ехали сюда; пойдите в церковь,
paсспросите обо мне – вам скажут, что у миссис Катерик есть свое место в
церкви наравне с другими и она платит за него аккуратно в положенный день.
Пойдите в городскую ратушу. Там лежит петиция – петиция от моих уважаемых
сограждан о том, чтобы бродячему цирку было запрещено появляться в нашем
городе, дабы не нарушать наши моральные устои. Да! Наши моральные устои.
Только сегодня утром я поставила свою подпись под этой петицией. Пойдите в
книжную лавку. Там собирали подписку на издание проповедей нашего священника
под названием: «В вере спасение мое». Моя фамилия стоит в числе подписавшихся.
В церкви во время сбора после проповеди о благотворительности жена доктора
кладет на тарелку только шиллинг – я кладу полкроны. Церковный староста
Соуард собирает пожертвования – он благодарит меня поклоном. Десять лет
назад он сказал Пигруму – аптекарю, что меня следует привязать к телеге и
выгнать из города плетью. Ваша мать жива? Разве ее настольная Библия лучше
моей? Уважают ли ее лавочники и торговцы, как уважают меня? Она всегда жила по
своим средствам? Не была мотовкой? Я никогда не брала в долг. Я никогда не была
мотовкой. А! Вот идет священник. Смотрите, мистер как-бишь-вас, смотрите сюда!
Она
вскочила со стремительностью молодой женщины, бросилась к окну, выждала, пока
священник поравнялся с ней, и торжественно поклонилась. Священник церемонно поднял
шляпу и прошел мимо. Миссис Катерик опустилась на стул и посмотрела на меня с
мрачным злорадством.
– Вот! –
сказала она. – Что вы теперь думаете о женщине с погибшей репутацией? Как
выглядят теперь ваши расчеты?
Необычный
путь, избранный ею в борьбе за самоутверждение, удивительное фактическое
доказательство восстановленной ее репутации, которое она только что мне
представила, так меня ошеломили, что я слушал ее в немом изумлении. Однако это
не помешало мне предпринять новую попытку застичь ее врасплох. Если б я сумел
вывести ее из равновесия, в припадке гнева она могла проговориться и дать мне
ключ к разгадке.
– Как
выглядят теперь ваши расчеты? – повторила она.
– Так
же, как они выглядели, когда я вошел, – отвечал я. – Я не сомневаюсь
в прочности положения, которое вы завоевали в этом городе, и не собираюсь
подрывать его, даже если б мог. Я приехал к вам, убежденный, что сэр Персиваль,
насколько мне известно, – ваш враг так же, как и мой. Если мне есть за что
ненавидеть сэра Персиваля, вам тоже есть за что его ненавидеть. Можете отрицать
это сколько хотите, можете не доверять мне, сколько вам угодно, можете гневаться
на меня, но из всех женщин в Англии вы, если только у вас есть
самолюбие, – вы именно та женщина, которая должна была бы помочь мне
уничтожить этого человека.
– Уничтожайте
его сами, – сказала она. – Потом возвращайтесь. Тогда посмотрим.
Она
проговорила эти слова тоном, каким раньше еще не разговаривала, –
отрывисто, яростно, мстительно. Я потревожил гнездо многолетней змеиной
ненависти, но только на миг. Как притаившееся пресмыкающееся, эта ненависть
вдруг проявилась, когда миссис Катерик жадно подалась вперед ко мне. Как
притаившееся пресмыкающееся, эта ненависть спряталась, когда она мгновенно
выпрямилась опять на своем стуле.
– Вы
мне не доверяете? – сказал я.
– Нет.
– Вы
боитесь?
– Разве
это на меня похоже?
– Вы
боитесь сэра Персиваля Глайда?
– Кто,
я?!
Ее лицо
загорелось, руки ее снова зашевелились на коленях. Я настойчиво продолжал, не
давая ей ни минуты для передышки.
– Сэр
Персиваль занимает высокое положение в обществе, – сказал я. –
Неудивительно, если вы его боитесь. Сэр Персиваль – влиятельный человек,
баронет, владелец прекрасного поместья, потомок знатной семьи...
Она
несказанно изумила меня взрывом хохота.
– Да, –
повторила она с горчайшим, неописуемым презрением. – Баронет, владелец прекрасного
поместья, потомок знатной семьи! Да, конечно! Знатной семьи – особенно по
материнской линии...
Мне было
некогда раздумывать над словами, которые вырвались у нее, но я почувствовал,
что, как только я буду за порогом ее дома, над ними стоит призадуматься.
– Я
здесь не для того, чтобы рассуждать с вами о его семейных делах, – сказал
я, – я ничего не знаю о матери сэра Персиваля...
– И
так же мало знаете о самом сэре Персивале! – резко перебила она.
– Советую
вам не быть слишком уверенной в этом, – возразил я. – Я знаю о нем
довольно много, а подозреваю еще больше.
– Что
вы подозреваете?
– Я
вам скажу, чего я не подозреваю. Я не подозреваю, что он отец Анны.
Она
вскочила на ноги и бросилась ко мне, как фурия.
– Как
вы смеете говорить со мной об отце Анны? Как вы смеете говорить, кто был ее отцом,
а кто не был! – выкрикнула она с исказившимся лицом и прерывающимся от
ярости голосом.
– Тайная
связь между вами и сэром Персивалем не в этом, – настаивал я. –
Тайна, которая омрачает его жизнь, родилась не с рождением вашей дочери и не
умерла с ее смертью.
Она
отступила на шаг.
– Вон! –
сказала она и властно указала на дверь.
– Ни
в вашем, ни в его сердце не было и мысли о ребенке, – продолжал я, решив припереть
ее к стене и выбить почву из-под ее ног. – Между вами не было никакой
любовной связи, когда вы отваживались на тайные свидания с ним. Дело
заключалось совсем не в этом, когда ваш муж застал вас вместе в ризнице старой
церкви.
При этих
словах ее рука упала, гневный румянец, покрывавший ее лицо, мгновенно сменился
тусклой бледностью. Я увидел, как что-то молниеносно промелькнуло в ней, я
увидел, как эта черствая, непреклонная, бесстрашная женщина содрогнулась от
ужаса, несмотря на все свое самообладание, когда я произнес «в ризнице старой
церкви».
С минуту
или больше мы стояли, молча глядя друг на друга. Я заговорил первый.
– Вы
все еще отказываетесь довериться мне? – спросил я.
Лицо ее
оставалось бледным, но голос уже окреп. Она ответила мне с прежним вызывающим
хладнокровием.
– Да,
отказываюсь, – сказала она.
– Вы
по-прежнему хотите, чтоб я ушел?
– Да.
Идите – и никогда больше не возвращайтесь.
Я
подошел к двери, подождал с минуту и обернулся, чтобы снова взглянуть на нее.
– Может
быть, у меня будут неожиданные для вас вести о сэре Персивале, – сказал
я, – в таком случае я вернусь.
– Для
меня не может быть неожиданных вестей о сэре Персивале, кроме... – Она
остановилась, бледное лицо ее потемнело, и бесшумной, крадущейся походкой она
вернулась к своему стулу. – Кроме вести о его смерти, – сказала она,
усаживаясь снова, с еле заметной злобной усмешкой. В глубине ее глаз вспыхнула
и тут же погасла ненависть.
Когда я
открыл дверь, чтобы уйти, она бросила на меня быстрый взгляд. Губы ее раздвинулись
в жестокую улыбку – она оглядела меня с головы до ног со странным
затаенным интересом, и нетерпеливое ожидание отразилось на мрачном ее лице. Не
рассчитывала ли она в глубине своего сердца на мою молодость и силу, на мои
оскорбленные чувства и недостаточное самообладание? Не взвешивала ли она в уме,
к чему все это приведет, если я и сэр Персиваль когда-нибудь встретимся?
Уверенность, что она именно так и думает, заставила меня немедленно уйти. Я
даже не смог попрощаться с ней. Мы молча расстались.
Когда я
открывал входную дверь, я увидел того же священника, он шел обратно той же дорогой.
Я подождал на ступеньках, чтобы дать ему пройти, и обернулся на окна гостиной.
В глубокой тишине сквера миссис Катерик услышала приближающиеся шаги и
подскочила к окну, чтобы увидеть священника. Сила страстей, которые я разбудил
в ее сердце, не могла ослабить ее отчаянную решимость не выпускать из рук
единственного доказательства общественного признания, с таким трудом давшегося
ей путем многолетних, неослабевающих стараний. Не прошло и минуты, как мы
расстались, но она снова стояла у окна, стояла именно так, чтобы священник
увидел ее и поклонился ей вторично. Он приподнял свою шляпу. Я увидел, как
черствое, зловещее лицо за окном смягчилось и озарилось удовлетворенной, гордой
улыбкой, я увидел, как голова в мрачном черном чепце церемонно поклонилась в
ответ. Священник поздоровался с ней на моих глазах в один и тот же день дважды!
IX
Уходя, я
чувствовал, что миссис Катерик помогла мне, сама того не желая. Не успел я завернуть
за угол, как мое внимание привлек звук захлопнувшейся двери.
Оглянувшись,
я увидел невысокого человека в черном костюме на ступенях дома, соседнего с
домом миссис Катерик. Человек этот не раздумывал, в каком направлении ему идти.
Он быстро направился в мою сторону. Я узнал в нем того «конторского клерка»,
который опередил меня в Блэкуотер-Парке и пытался завязать со мной ссору, когда
я спросил его, можно ли осмотреть усадьбу.
Я
подождал, предполагая, что он подойдет и заговорит со мной. К моему удивлению,
он быстро прошел мимо меня, не говоря ни слова и даже не посмотрев в мою
сторону. Это было прямо противоположно тому образу действий, которого я от него
ожидал. Из любопытства, вернее, из подозрительности я решил, со своей стороны,
не терять его из виду и выяснить, куда он так спешит. Не заботясь о том, видит
он меня или нет, я шел за ним. Он ни разу не оглянулся и торопливо шел по улице
по направлению к станции.
Поезд
должен был вот-вот отойти, два или три запоздавших пассажира толклись у окошка
кассы. Я присоединился к ним и отчетливо услышал, как клерк попросил билет до
Блэкуотер-Парка. Я не ушел с вокзала, пока не убедился, что он действительно
уехал в этом направлении.
Всему,
что я видел и слышал, напрашивалось только одно объяснение. Бесспорно, этот человек
вышел из дома, примыкавшего к дому, где жила миссис Катерик. Очевидно, по
распоряжению сэра Персиваля он снял там комнату в ожидании, что мои
расследования приведут меня рано или поздно к миссис Катерик. Он, несомненно,
видел мой приход и уход и поспешил с первым же поездом в Блэкуотер-Парк, куда,
естественно, должен был отправиться сэр Персиваль (очевидно, знавший о
предпринятых мной шагах), чтобы быть на месте, если я вернусь в Хэмпшир.
Похоже
было на то, что не пройдет и нескольких дней, как мы неизбежно встретимся. К
каким бы результатам это ни привело, я решил идти прямо к намеченной цели, не
сворачивая с дороги ни для сэра Персиваля, ни для кого другого. Тяжелая
ответственность, лежавшая на моих плечах в Лондоне, – ответственность за
малейший мой шаг, дабы это не привело к обнаружению убежища Лоры, – не
существовала для меня в Хэмпшире. Я мог разгуливать по Уэлмингаму в каком
угодно направлении – последствия за несоблюдение необходимых
предосторожностей падали на одного меня.
Зимний
вечер уже спускался над городом, когда я уходил со станции. Не стоило продолжать
мои розыски в незнакомом месте после темноты. Я направился в ближайший отель,
снял номер и заказал себе обед. Затем я написал Мэриан, что цел и невредим и
полон надежд на успех. Уезжая, мы условились, что она будет писать мне в
Уэлмингам до востребования (я рассчитывал получить ее первое письмо на
следующее утро). Я просил ее написать мне вторично по тому же адресу. Если б
мне пришлось уехать и ее письмо пришло в мое отсутствие, я мог оставить на
почте распоряжение переслать его мне.
К концу
вечера ресторан отеля совсем опустел. Я мог теперь поразмыслить над тем, чего я
достиг сегодня, совершенно беспрепятственно, как если б я был у себя дома.
Перед сном я внимательно продумал все сказанное мне миссис Катерик во время
нашего необыкновенного свидания и проверил те поспешные выводы, к которым
пришел в течение дня.
Ризница
приходской церкви в Старом Уэлмингаме была исходной точкой, от которой я стал
мысленно возвращаться в прошлое, памятуя, что говорила миссис Катерик и как она
вела себя при этом.
Когда
миссис Клеменс в разговоре со мной впервые упомянула о ризнице приходской
церкви, я счел ее самым неподходящим и неожиданным местом из всех, которые сэр
Персиваль мог выбрать для любовных свиданий с женой церковного причетника. Под
этим впечатлением, а вовсе не по какой-либо другой причине я упомянул о ризнице
в разговоре с миссис Катерик. Свидание в церкви было одной из тех мелких
подробностей всей этой истории, которые были мне не совсем понятны. Я был готов
к тому, что она смутится или рассердится, но совершенно не ожидал, что при
упоминании о ризнице она придет в такой ужас.
Я давно
связывал тайну сэра Персиваля с сокрытием какого-то серьезного преступления, о
котором знала миссис Катерик, но дальше этого мои предположения не шли. Ужас
этой женщины был прямо или косвенно связан с ризницей старой приходской церкви
и убеждал меня, что она была больше чем просто свидетельницей
преступления – она, несомненно, была соучастницей сэра Персиваля. В чем же
состояло это преступление? Помимо всего, в нем было что-то, вызывавшее
презрение миссис Катерик, иначе она не повторила бы мои слова относительно высокого
общественного положения сэра Персиваля с такой явной пренебрежительной
насмешкой. Преступление было опасным и постыдным. Она принимала в нем участие.
Оно было связано с ризницей старой приходской церкви.
Тщательно
рассмотрев еще одно обстоятельство, я пришел к дальнейшим выводам.
Миссис
Катерик чувствовала нескрываемое презрение не только к сэру Персивалю, но и к
его матери. Она со злобной иронией отозвалась о знатной семье, чьим потомком он
был, особенно по материнской линии. Что это значило? Объяснений могло быть
только два: или мать его была отнюдь не знатного происхождения, или на
репутации его матери было какое-то позорящее ее пятно, о котором знали и сэр
Персиваль и миссис Катерик. Я мог проверить первое предположение, просмотрев
метрическую книгу, где был зарегистрирован брак его родителей, и таким образом
выяснить девичью фамилию и происхождение его матери, тем самым подготовившись к
дальнейшему расследованию.
С другой
стороны, если бы правильным было второе предположение, что за пятно могло быть
на репутации матери сэра Персиваля? Припоминая рассказ Мэриан о родителях сэра
Персиваля и об уединенном образе жизни, который, непонятно почему, они вели, я
задал себе вопрос: может быть, мать сэра Персиваля не была замужем за его
отцом? Это сомнение можно было легко устранить тоже путем проверки метрической
книги. Но где найти эту книгу? Тут я решил, что мой прежний вывод был
правильный – метрическую книгу надо было искать в ризнице приходской
церкви Старого Уэлмингама.
Таковы
были результаты моего свидания с миссис Катерик, таковы были различные соображения,
неизменно ведущие только к одному выводу и подсказывавшие мне мои дальнейшие
действия.
На
следующее утро небо было хмурым и облачным, но дождя не было. Я оставил свой чемодан
на хранение в отеле и, узнав, в каком направлении лежит Старый Уэлмингам,
отправился в путь к старой церкви.
Мне
пришлось сделать больше двух миль. Дорога медленно поднималась в гору.
На самой
вершине стояла церковь – старинное, одряхлевшее от времени здание с тяжелыми
подпорками по сторонам, с неуклюжей четырехугольной башней в центре. Ризница,
такая же древняя и дряхлая, примыкала к церкви, но имела свой отдельный выход.
Вокруг церкви сохранились следы старого поселка, в котором когда-то жила миссис
Клеменс со своим мужем. Жители давно переехали в новый город. Некоторые дома
были разобраны, от них остались одни стены. Другие дома, брошенные на произвол
судьбы, совсем разрушились от времени, в некоторых до сих пор еще ютились
обездоленные бедняки. Все вместе представляло собой довольно грустное зрелище,
однако, несмотря ни на что, не столь гнетущее, как новый город, который я
только что покинул. Вокруг лежал простор порыжевших полей, на которых приятно
отдыхал глаз; деревья, хоть и облетевшие, разнообразили монотонность
окружающего и помогали мысленно предвкушать лето и отдых под тенистой сенью
ветвей.
Обойдя
церковь, я прошел дальше мимо покинутых домов в поисках кого-нибудь, кто мог бы
направить меня к причетнику, и увидел двух мужчин, выскочивших из-за угла
навстречу мне. Самого высокого из них – крепкого, мускулистого человека в
костюме лесника – я никогда раньше не видел. Другой был одним из тех, кто
следил за мной в Лондоне, когда я ходил в контору мистера Кирла. Я тогда же
постарался запомнить его лицо и теперь был уверен, что не ошибаюсь, – это
был именно он.
Он и его
спутник не делали попыток заговорить со мной и оба держались на приличном
расстоянии, но появление их по соседству с церковью говорило само за себя. Как
я и предполагал, сэр Персиваль готовился к встрече со мной. Вчера вечером ему
доложили о моем визите к миссис Катерик, и сегодня эти двое стояли на
сторожевом посту в ожидании моего прихода в Старый Уэлмингам. Если мне были
нужны дальнейшие доказательства того, что теперь мои расследования велись
наконец в правильном направлении, присутствие здесь этих двух соглядатаев
полностью подтверждало мои догадки.
Я
удалялся от церкви, пока не дошел до одного из обитаемых домов. К дому примыкал
небольшой огородик – в нем копался какой-то человек. Он показал мне жилище
причетника. Это был коттедж, стоявший в отдалении от других домов, на окраине
заброшенного местечка. Причетник был дома. Он как раз собирался идти в церковь.
Это был бодрый, добродушный, разговорчивый старик, не замедливший сообщить мне,
что весьма пренебрежительно относится к деревне, в которой живет, чувствуя свое
превосходство над соседями в силу того, что однажды имел счастье побывать в
Лондоне.
– Очень
хорошо, что вы так рано пришли, сэр, – сказал старый причетник, когда я
упомянул о цели моего прихода. – Еще десять минут, и меня бы здесь не
было. Дела прихода, сэр! Много дел, много суетни, весь день на ногах! А возраст
мой уже не маленький. Но, да благословит вас Господь Бог, я еще крепок на ноги!
Лишь бы человека ноги держали, а тогда он еще может работать. Вы ведь тоже так
считаете, правда, сэр?
С этими
словами он снял ключи, висевшие на гвозде у камина, и запер за нами дверь
своего коттеджа.
– Нет
у меня никого, кто присмотрел бы за домом да за хозяйством, сэр, – весело
сказал старый причетник, очевидно, радуясь полному освобождению от всех
домашних обуз и хлопот. – Жена моя лежит вон там, на кладбище, дети все переженились.
Злополучное местечко, не так ли, сэр? Но приход большой. Не каждый сумел бы
справиться, как я, со всеми делами! Вот что значит образование, оно перепало и
на мою долю, и даже в большей мере, чем это было необходимо. Я ведь говорю
правильным, королевским английским языком (да здравствует наша королева!), а
этого здесь никто не может. Вы, конечно, лондонец, сэр? Я был в Лондоне лет двадцать
пять тому назад. Что новенького произошло там за это время, сэр?
Болтая
таким образом, он довел меня до церкви. Я осмотрелся, не видно ли где моих шпионов,
но их не было. Вероятно, после того как они проследили за моим визитом к
причетнику, они спрятались, чтобы я не мог увидеть их, и беспрепятственно
наблюдали за мной.
Дверь
ризницы из старого мореного дуба была обита крупными гвоздями. Причетник вложил
свой огромный, увесистый ключ в замочную скважину с видом человека, знающего
наперед, с какими трудностями ему придется встретиться, и не уверенного, сумеет
ли он их преодолеть.
– Мне
придется провести вас в церковь отсюда, сэр, – сказал он. – Дверь
между церковью и ризницей заперта на засов со стороны ризницы, а то мы могли бы
войти через церковные двери. Отвратительный замок, сэр! А ключ! Огромный, как
ключ от тюремных дверей. С ним очень трудно справиться. Его давно пора бы
сменить. Сотни раз говорил я об этом церковному старосте – он все твердит:
«Я займусь этим», – и ни с места. Да, захолустный уголок, сэр. Не похож на
Лондон, правда, сэр? О Господи, мы здесь погружены в спячку! Мы отстали от
жизни!
Поворачивая
ключ то так, то эдак, он наконец заставил замок поддаться – массивная
дверь застонала, загремела и открылась. Ризница была гораздо просторнее, чем
это можно было предположить снаружи. Полутемная, заплесневелая, унылая, старая
комната с низким, проложенным дубовыми балками потолком. По стенам ризницы
стояли огромные деревянные шкафы, источенные червями, ветхие от времени. В
одном из этих шкафов висело на гвоздях несколько стихарей, оттопыриваясь
снизу, – у них был неблагочестивый вид каких-то пыльных драпировок. Под
ними на полу стояли три ящика, наполовину прикрытые крышками; солома вылезала
во все стороны из их щелей и трещин. В углу лежали в беспорядке груды каких-то
бумаг, некоторые из них большие, свернутые, как архитектурные планы,
другие – нанизанные друг на друга, как счета или документы. Когда-то
комнату освещало небольшое оконце в стене, но его заложили кирпичами и сделали
оконное отверстие в потолке. Воздух в комнате был спертый, пахло плесенью, да к
тому же дверь, ведущая отсюда в церковь, была наглухо заперта. Эта тяжелая
дубовая дверь была закрыта на два огромных засова вверху и внизу.
– Тут
могло бы быть больше порядка, сэр, правда? – сказал веселый
причетник. – Но что поделаешь, когда находишься в таком заброшенном, Богом
забытом местечке. Вот взгляните на эти ящики. С год или около того они были
готовы к отправке в Лондон, да так и остались здесь, только ризницу
загромождают. Тут они и останутся, пока совсем не развалятся. Я скажу, сэр, как
уже говорил: это вам не Лондон! Мы пребываем в спячке! Да! Мы все отстали от
жизни!
– А
что в этих ящиках? – спросил я.
– Куски
деревянной резьбы от кафедры священника, панели от алтаря и скульптуры с органных
хоров. Двенадцать апостолов в дереве, у всех у них отбиты носы. Они поломались,
их черви источили, они крошатся, рассыпаются в пыль. Ломкие, как глина, сэр, и
старые, как эта церковь, если не старше.
– А
зачем их хотели отправить в Лондон? Для реставрации?
– Вот
именно, сэр, для починки, а те, что уже нельзя починить, – для копии в
новом дереве. Но, помилуй Бог, на это не хватило средств, вот они и валяются
тут, пока денег не соберут, а собирать-то не с кого. С год назад, сэр, шесть
джентльменов отобедали в честь этой будущей починки в гостинице в новом городе.
Они говорили речи, провозглашали тосты, принимали резолюции,
подписывались – и напечатали тысячу объявлений. Такие красивые объявления,
сэр, разукрашенные готическими буквами и напечатанные красной краской. В
объявлениях говорилось, что позорно не ремонтировать церковь и не чинить
знаменитые старинные деревянные скульптуры. Вот они лежат и будут лежать до
скончания веков вместе с планами архитектора, сметой и другими бумагами. Дело
чуть до драки не дошло, но с места не сдвинулось. Небольшие пожертвования
поступали сначала, но что поделаешь! Это ведь не Лондон, сэр! Денег хватило,
только чтобы запаковать деревянные обломки и заплатить за объявления – и
все. Так они тут и валяются, как я вам уже сказал. Некуда их девать –
никому в новом городе до нас дела нет, мы в захолустье, мы всеми позабыты, сэр.
В ризнице страшный беспорядок, а откуда ждать помощи? Вот что хотел бы я знать!
Мне не
терпелось просмотреть метрическую книгу, и я не стал поощрять старика к дальнейшему
разглагольствованию. Я согласился с ним, что помощи ждать неоткуда и привести
ризницу в порядок невозможно, а затем предложил не откладывать в долгий ящик
намеченные нами дела.
– Да-да.
Итак, примемся за метрические книги, – сказал причетник, вынимая из
кармана небольшую связку ключей. – За какие приблизительно годы, сэр?
Когда мы
с Мэриан впервые говорили о помолвке Лоры, она упомянула о возрасте сэра
Персиваля – ему было сорок пять лет. Сделав соответствующий расчет и
помня, что с того времени, когда я получил эти сведения, прошло больше
года, – я пришел к заключению, что он родился в 1804 году, и в метрической
книге надо искать приблизительно эту дату.
– Я
хочу начать с 1804 года, – сказал я.
– А
затем, сэр? – спросил причетник. – Назад с этого года или вперед, к
нашему времени?
– Назад,
начиная с 1804 года.
Он
отворил один из шкафов, тот самый, где висели стихари, и вынул огромную книгу в
лоснящемся от старости переплете из коричневой кожи. Меня поразило, как открыто
и доступно для каждого хранились метрические книги. Двери шкафа почти
развалились, такими они были ветхими, замок был небольшой и несложный, я мог бы
легко открыть шкаф с помощью моей трости.
– Разве
можно считать это надежным местом для хранения метрических книг? – осведомился
я. – Книги представляют собой чрезвычайно важные документы и должны были
бы храниться под лучшим замком, в сейфе.
– Вот
любопытно! – сказал причетник, захлопывая книгу и весело шлепая ладонью по
переплету. – Те же самые слова говорил мой старый хозяин много лет назад,
когда я был мальчишкой. «Почему книга (он говорил об этой самой книге) –
почему она не хранится в сейфе?» Он повторял это тысячу раз. Он был стряпчим в
те годы, сэр, и его выбрали в секретари прихода. Прекрасным человеком был
старый джентльмен, сэр, и необычайно аккуратным. При жизни он хранил копию этой
книги в Нолсбери и время от времени сверял ее с новыми записями в подлиннике.
Вы не поверите, но в установленный день, раз в три месяца, он приезжал сюда
верхом на своем старом белоснежном пони, чтобы собственноручно сверить копии.
«Откуда я знаю, – говаривал он, – откуда я знаю, что книга в ризнице
не будет похищена или уничтожена? Почему бы книгу не хранить в сейфе? Почему я
не могу заставить других быть такими же аккуратными, как я? В один прекрасный
день с метрической книгой в церкви что-нибудь случится, и тогда приход поймет,
какую ценность представляет моя копия». После этого он обычно брал понюшку
табаку и гордо оглядывался вокруг – ну, лорд, да и только! Таких, как он,
теперь и не сыщешь. Не найдешь, пожалуй, и в Лондоне... За какой год вы
сказали, сэр, тысяча восемьсот... который?
– Тысяча
восемьсот четвертый, – отвечал я, мысленно решив не давать старику
отвлекать меня разговорами, пока дело не будет сделано.
Причетник
надел очки и, заботливо послюнявив пальцы, начал переворачивать страницы.
– Вот
оно, сэр! – сказал он, снова весело шлепнув по книге. – Вот год,
который вам нужен.
Не зная,
в каком месяце родился сэр Персиваль, я начал просматривать записи с января месяца.
Метрическая книга содержалась по-старомодному – записи производились от
руки и разделялись между собой чертой, сделанной чернилами.
Я
просмотрел январь 1804 года, ничего там не нашел и начал смотреть в обратном
направлении. Декабрь 1803 года, ноябрь, октябрь – ничего.
Вот! В
записях от сентября 1803 года я нашел регистрацию брака родителей сэра Персиваля.
Я
внимательно рассматривал запись. Она помещалась в самом низу страницы и за недостатком
места была очень сжатой.
Предыдущая
брачная запись запомнилась мне в связи с тем, что имя жениха было Уолтер, как и
мое. Последующая запись (за той, которая была мне нужна) запомнилась мне из-за
курьезного факта: двое братьев сочетались браком в один и тот же день. Запись о
браке сэра Феликса Глайда ничем не отличалась от других записей, –
пожалуй, только тем, что была втиснута внизу страницы. О жене его говорилось в
обычных терминах: «Сесилия Джейн Элстер из Парк-Вью-Коттеджа Нолсбери,
единственная дочь покойного Патрика Элстера, эсквайра из Бата».
Я
переписал эту запись в свою памятную книжку, чувствуя себя подавленным и не
зная, что предпринять дальше. Тайна, которая до той минуты казалась почти в
моих руках, снова была недосягаемой и непонятной.
Что дало
мне посещение ризницы? Какие новые пути к разгадке тайны подсказывало оно мне?
Ровно никаких. Что я узнал о запятнанной репутации матери сэра Персиваля? Ровно
ничего! Факт, ставший мне известным из метрической книги, полностью обелял ее
имя. Новые сомнения, новые препятствия, новые отсрочки вставали передо мной
нескончаемой вереницей.
Что мне
следовало предпринять теперь? Оставалось разузнать как можно подробнее про
«мисс Элстер из Нолсбери», чтобы выяснить, почему и за что миссис Катерик
питала такое презрение к матери сэра Персиваля.
– Вы
нашли, что искали, сэр? – спросил старик, когда я закрыл книгу.
– Да, –
отвечал я, – но мне нужны еще кое-какие сведения. Наверно, церковный
причетник, служивший в этой церкви в 1803 году, уже умер?
– Умер,
сэр, года за три или четыре до того, как я начал служить здесь, а это было в
1827 году. Я получил это место, сэр, – продолжал мой разговорчивый
знакомый, – когда причетник, служивший здесь до меня, бросил службу и
уехал. Говорили, что это произошло из-за его жены, – будто бы он из-за нее
бросил и дом и работу, а сама она до сих пор живет в новом городе. Я не знаю
подробностей этой истории, знаю только, что заступил на его место. Мистер
Уансборо помог мне получить службу – сын моего старого хозяина, о котором
я вам рассказывал. Он такой простой, добродушный джентльмен – любит охоту,
держит охотничьих собак и тому подобное. Теперь он секретарь прихода вместо
своего отца.
– Кажется,
вы сказали, что ваш старый хозяин жил в Нолсбери? – спросил я, припоминая,
как разговорчивый причетник угощал меня длинным рассказом об аккуратном старом
джентльмене, перед тем как раскрыл метрическую книгу.
– Да,
конечно, сэр, – отвечал причетник, – старый мистер Уансборо жил в
Нолсбери, там же живет и молодой мистер Уансборо.
– Вы
только что сказали, что он секретарь прихода, как был его отец. Я не очень
хорошо представляю себе, что такое секретарь прихода.
– Неужели,
сэр? А ведь вы из Лондона! В каждой приходской церкви есть секретарь прихода и
причетник. Причетник – это человек вроде меня (я более образован, чем
большинство из них, но не хвастаюсь этим). А секретарями прихода обычно
назначают юристов, и если надо вести какие-нибудь дела церковного прихода,
обычно это делают они. Так же как и в Лондоне. Каждый церковный приход имеет
своего секретаря, и верьте мне – все они юристы.
– Молодой
мистер Уансборо тоже?
– О,
конечно, сэр! Он юрист в Нолсбери, на Хай-стрит, в старой конторе своего отца.
Сколько раз я там бывал, сколько раз видел, как старый джентльмен трусил верхом
на своем белом пони, гордо поглядывая направо и налево и раскланиваясь со
всеми! О Господи, он был очень популярен, он был бы популярен и в Лондоне.
– А
как далеко отсюда до Нолсбери?
– Довольно
далеко, сэр, – сказал причетник с преувеличенным представлением о расстояниях
и о затруднительности передвижения с места на место, обычным для всех сельских
жителей. – Около пяти миль, уверяю вас!
Сейчас
было утро. Для прогулки в Нолсбери и обратно в Уэлмингам времени было достаточно.
Никто лучше, чем местный стряпчий, не мог бы разъяснить мне, как обстояло дело
с репутацией матери сэра Персиваля до ее замужества. Я вышел из ризницы с
намерением отправиться в Нолсбери.
– Очень
благодарен вам, сэр, – сказал причетник, когда я сунул ему в руку
несколько монет. – Вы на самом деле собираетесь пройтись туда и обратно в
Нолсбери? Ну что ж! Вы еще крепки на ноги – это просто благословение
Божье, правда?.. Вот дорога, заблудиться вы не можете. Хотел бы я пойти с вами!
Приятно было встретить в нашем захолустье джентльмена из Лондона, новости
послушать. Пожелаю вам всего наилучшего, сэр, еще раз благодарю.
Мы
расстались. Когда я вышел из церкви и оглянулся, по дороге за мной шли те два
человека и еще третий – человек в черном, который ездил вчера в
Блэкуотер-Парк.
Все трое
остановились, поговорили между собой и разошлись. Человек в черном пошел в
Уэлмингам. Двое остались, очевидно, намереваясь следовать за мной.
Я пошел
дальше, делая вид, что не обратил на них особого внимания. Я вовсе не чувствовал
к ним раздражения в ту минуту – напротив, их присутствие вселяло в меня
надежду на успех. За разочарованием при виде брачной записи я забыл вывод, к
которому прежде пришел, заметив их по соседству с ризницей. Их появление
означало, что сэр Персиваль правильно предугадал последствия моего визита к
миссис Катерик. Он понял, что я отправлюсь в приходскую церковь Старого
Уэлмингама, иначе он никогда не послал бы туда своих шпионов. Какая бы тишь да
гладь ни была в старой ризнице, что-то за этим скрывалось. Было что-то в
метрической книге, чего я еще не заметил.
Х
Когда
церковь скрылась из моих глаз, я быстро зашагал по дороге в Нолсбери.
Почти на
всем протяжении дорога была прямой и ровной. Оглядываясь, я все время видел за
собой двух своих преследователей. По большей части они держались на солидном
расстоянии от меня. Но несколько раз они прибавляли шаг, как бы желая перегнать
меня, потом останавливались, переговаривались и по-прежнему шли за мной.
Очевидно, они имели в виду определенную цель, но не знали, каким путем достичь
ее. Угадать, чего они хотят, я не мог, но у меня возникли опасения, что на пути
к Нолсбери я встречусь с серьезными препятствиями. Эти опасения оправдались.
Как раз
в то время я вышел на самую безлюдную часть дороги, впереди был крутой поворот;
мне показалось, что город уже недалеко. Вдруг я услышал шаги за своей спиной.
Прежде чем я успел оглянуться, один из них (тот, который следил за мной в
Лондоне) быстро шагнул ко мне и резко толкнул меня плечом. К сожалению, я крепко
ударил его за это, раздраженный тем, что он и его товарищ упорно преследовали
меня с самого Старого Уэлмингама. Он сейчас же заорал: «На помощь!» Его
спутник, высокий человек в костюме лесника, тут же подскочил ко мне, и в
следующую минуту два негодяя крепко держали меня за руки посреди дороги.
Уверенность,
что мне была расставлена ловушка, и досада на себя за то, что я попал в нее, к
счастью, удержали меня от бесполезного сопротивления, которое только усугубило
бы мое положение. Неразумно было драться с двумя людьми, один из которых был,
бесспорно, сильнее меня. Я подавил свое естественное желание вырваться от них и
осмотрелся – нет ли поблизости кого-нибудь, к кому я мог бы обратиться за
помощью.
Какой-то
человек работал в поле и был свидетелем всего происшествия. Я позвал его и попросил
пойти с нами в город. Но он упрямо помотал головой и ушел по направлению к
домику, стоявшему далеко от большой дороги. В то же время люди, державшие меня
за руки, заявили о своем намерении предъявить мне обвинение в оскорблении
действием, так как я будто бы напал на них. Но теперь у меня хватило ума и
самообладания, чтобы не вступать в препирательство с ними.
– Не
держите меня, я пойду с вами в город, – сказал я.
Человек
в костюме лесника грубо отказался. Но невысокий человек сообразил, что ненужное
насилие может иметь неприятные для них последствия. Он сделал знак второму, и
они отпустили мои руки.
Мы дошли
до поворота, и перед нами показались окраины Нолсбери. Один из местных полисменов
шел по тропинке вдоль большой дороги. Мои двое сразу обратились к нему. Он отвечал,
что мировой судья находится сейчас в городской ратуше, и посоветовал нам идти
туда.
Мы пошли
в ратушу. Клерк выписал судебную повестку, и мне было предъявлено официальное
обвинение с обычными в таких случаях преувеличениями и искажениями подлинных
фактов. Мировой судья (раздражительный человек, желчно упивавшийся исполнением
своих обязанностей) спросил, не был ли кто свидетелем этого «оскорбления
действием», и, к моему удивлению, истец рассказал о рабочем в поле. Из
последующих слов мирового судьи мне стало ясно, зачем это было сделано. Судья
приказал, чтобы я был заключен под стражу до появления свидетеля, однако
выразил согласие выпустить меня на поруки, если я смогу представить ему
ответственного поручителя. Он отпустил бы меня на слово, если бы меня в городе
знали, но, так как здесь я был никому не известен, необходимо было, чтобы
кто-то взял меня на поруки.
Теперь
мне стало понятно, для чего все это было подстроено. Необходимо было избавиться
от меня на день-два. В городе, где я был совершенно посторонним человеком, я,
естественно, не мог найти за себя поручителя. В целом мне предстояло просидеть
в тюрьме три дня – до следующего заседания мирового суда. А за эти три дня
сэр Персиваль мог сделать все, что угодно, чтобы затруднить мои дальнейшие
шаги, – он мог замести все свои следы, не боясь с моей стороны никаких
препятствий.
Сначала
я пришел в такое негодование, вернее, отчаяние из-за этой коварной задержки, такой
низкой и пустяковой, но такой серьезной в связи с последствиями, которые она
могла бы иметь, что не мог спокойно поразмыслить, как выпутаться из этого
положения. В запальчивости я попросил письменные принадлежности, чтобы частным
образом описать мировому судье настоящее положение вещей. Сначала я не понял
всей бесполезности и неосторожности такого поступка и написал уже несколько
вступительных строк. Мне стыдно в этом признаться – я почти позволил своей
досаде взять верх над моим самообладанием. Вдруг я отодвинул от себя письмо.
Мне пришло в голову то, чего сэр Персиваль никак не мог предусмотреть и что
могло бы освободить меня через несколько часов: обратиться к помощи доктора
Доусона из Ок-Лоджа.
Как вы,
может быть, помните, я был у этого джентльмена во время моей первой поездки в
Блэкуотер-Парк и привез ему рекомендательное письмо от мисс Голкомб, в котором
она писала ему обо мне в самых похвальных выражениях. Я написал доктору
Доусону, ссылаясь на ее письмо, и напомнил ему, что говорил с ним об опасной и
деликатной природе моих расследований. В разговоре с ним я не открыл ему всей
правды о Лоре, а сказал только, что мое поручение имеет отношение к важному
семейному делу, касающемуся мисс Голкомб. С той же осторожностью я написал ему
о неприятном положении, в котором очутился в Нолсбери, и представил доктору
самому судить, оправдывает ли мою просьбу выручить меня в городе, где я никого
не знал, его прежнее гостеприимство и доверие ко мне леди, которую он прекрасно
знал и весьма уважал.
Мне
разрешили нанять посыльного, который мог поехать к доктору в экипаже. Таким образом,
доктор, если б пожелал, мог сразу же вернуться с ним в Нолсбери. Ок-Лодж
находился неподалеку от Нолсбери, не доезжая Блэкуотера. Посыльный заявил, что
обернется часа за полтора. Я велел ему разыскать доктора, куда бы тот ни уехал,
и стал терпеливо ждать результатов, надеясь на лучший исход.
Когда
посыльный уехал, было около двух часов дня. Около четырех он вернулся вместе с
доктором. Доброта мистера Доусона, деликатность, с которой он счел необходимым
немедленно прийти мне на помощь, просто растрогали меня! Он тут же поручился за
меня, и меня отпустили.
Было
четыре часа дня, когда я горячо пожимал руки доброго старого доктора на улице
Нолсбери. Я был снова свободным человеком.
Мистер
Доусон гостеприимно пригласил меня в Ок-Лодж, с тем чтобы я переночевал у него.
В ответ я мог только сказать ему, что мое время не принадлежит мне, и просил
отложить приглашение на несколько дней, когда я смогу подробно объяснить и
рассказать ему все, что он был вправе знать. Мы расстались настоящими друзьями,
и я сразу же направился в контору мистера Уансборо на Хай-стрит.
Необходимо
было спешить. Весть о моем освобождении на поруки, безусловно, еще до ночи
долетит до сэра Персиваля. Если в ближайшие часы его страхи не оправдаются и я
не буду в состоянии прижать его к стенке, я могу безнадежно, навсегда потерять
все, чего я уже достиг. Беспринципность и бессовестность этого человека, его
связи и влияние, безвыходное, отчаянное положение, в которое я мог поставить
его своими расследованиями, – все заставляло меня спешить. Я не мог терять
ни минуты драгоценного времени на пути к разгадке его тайны. У меня был
достаточный срок для размышлений, когда я ждал мистера Доусона, и я хорошо
продумал свои дальнейшие шаги. Кое-что из того, что рассказал мне разговорчивый
старый причетник, хотя он и надоел мне этим, теперь припомнилось мне в новом
свете. Мрачное подозрение, не приходившее мне в голову в ризнице, закралось мне
в душу. По дороге в Нолсбери я был намерен обратиться к мистеру Уансборо только
за справкой относительно матери сэра Персиваля. Теперь же я решил просмотреть
находившуюся у него копию метрической книги приходской церкви Старого
Уэлмингама.
Мистер
Уансборо был у себя в конторе и немедленно принял меня. Он был живым, общительным
человеком, с румяным, обветренным лицом, похожий больше на деревенского
сквайра, чем на юриста. Казалось, его и позабавила и удивила просьба, с которой
я к нему обратился. Он слышал, что у отца его была копия метрической книги, но
сам никогда ее не видел. До сих пор она никогда никому не была нужна. Она,
безусловно, хранится в сейфе вместе с другими бумагами его отца. После его
смерти к ним никто не прикасался.
– Очень
жаль, – сказал мистер Уансборо, – что старый джентльмен не может
услышать, что его драгоценная копия кому-то наконец понадобилась. Он бы с еще
большим рвением предался своему любимому занятию. Каким образом вы узнали об
этой копии? От кого-нибудь из местных жителей?
Я
уклонялся от ответов, как мог. Теперь, как никогда, необходимо было соблюдать
осторожность. Лучше было не говорить мистеру Уансборо о том, что я уже
просматривал подлинную книгу. Поэтому я сказал мистеру Уансборо, что занят
одним семейным делом, требующим спешки. Мне необходимо сегодня же отослать
некоторые справки в Лондон, и просмотр дубликата (за известную плату, конечно)
даст мне возможность не ходить в Старый Уэлмингам. Я прибавил, что, если мне
впоследствии снова будет нужна метрическая книга, я обращусь за этим в контору
мистера Уансборо. После этого объяснения никаких возражений против предоставления
мне книги не последовало. Послали клерка принести книгу из сейфа. Через
некоторое время он вернулся. Копия была совершенно такого же размера, как и
подлинник, разница была только в том, что дубликат был в более нарядном
переплете. Я сел за свободный письменный стол. Руки мои дрожали, голова
горела – я чувствовал необходимость не выдавать своего волнения перед
окружающими. Я открыл метрическую книгу.
На
заглавной странице были строки, написанные выцветшими чернилами. Они гласили:
«Копия
метрической книги приходской церкви в Уэлмингаме, выполненная по моему распоряжению
и сверенная – запись за записью – с подлинником лично мной. Подпись:
Роберт Уансборо, секретарь прихода». Под его подписью уже другим почерком было
написано: «Продолжительностью с 1 января 1800 года до 13 июня 1815 года».
Я начал
просматривать сентябрь 1803 года. Я нашел брачную запись человека, которого
звали Уолтером, как меня. Я нашел запись о браках двух братьев. Между этими
двумя записями, в самом низу страницы...
Ничего!
Ни малейшего следа, ни намека на запись брака сэра Феликса Глайда и Сесилии
Джейн Элстер в дубликате метрической книги не было!
Сердце
мое чуть не выпрыгнуло из груди, я чуть не задохнулся от волнения. Я опять взглянул –
я боялся поверить собственным глазам. Нет! Сомнений не было. Регистрации брака
в книге не было. Копии записей были расположены в том же самом порядке, на тех
же самых местах, что и в подлинной метрической книге. Последняя запись на одной
из страниц относилась к человеку, которого, как и меня, звали Уолтером. Под ней
внизу было пустое, незаполненное пространство, очевидно, слишком тесное и
узкое, чтобы втиснуть в него запись о браке двух братьев, которая и в копии,
как и в подлиннике, занимала верх следующей страницы. Этот незаполненный
промежуток объяснял мне все! И в подлиннике место это пустовало с 1803 года до
1827 года, пока сэр Персиваль не появился в Старом Уэлмингаме. Именно здесь, в
Нолсбери, можно было обнаружить подлог, проверив копию метрической
книги, – сам подлог был совершен в Старом Уэлмингаме, в подлиннике.
Голова
моя пошла кругом, мне пришлось ухватиться за стол, чтобы не упасть. Из всех подозрений,
которые вызывал у меня этот отчаянный человек, ни одно не было правильным.
Мысль, что он вовсе не был сэром Персивалем Глайдом, что он имел столь же мало
прав на свое имя, титул и поместье, как и беднейший из его рабочих, ни разу не
пришла мне в голову. Сначала я предполагал, что, возможно, он отец Анны
Катерик, затем думал, что, может быть, он был ее мужем, но истинное
преступление этого человека лежало за пределами моей фантазии.
Низость
этого подлога, размеры и дерзость этого преступления, ужасные последствия для
самого преступника в случае, если бы подлог был обнаружен, – все вместе
ошеломило меня. Понятны были теперь неустанная, беспрерывная тревога и
беспокойство этого презренного негодяя, отчаянные вспышки безрассудного
буйства, чередовавшегося с жалким малодушием, безумная подозрительность, из-за
которой он упрятал Анну Катерик в сумасшедший дом и совершил страшное злодеяние
против своей жены всего только на основании пустого, померещившегося ему
предположения, что она, как Анна Катерик, тоже знает его тайну! Раскрытие этой
тайны грозило ему в прежние времена смертной казнью через повешение, а
теперь – пожизненной каторгой. Разоблачение этой тайны даже в том случае,
если бы те, кто пострадал из-за его подлога, пощадили бы его и не отдали под
суд, одним ударом лишало его имени, титула, поместья, общественного
положения – словом, всего того, чем он завладел обманным путем. Вот в чем
заключалась его тайна, и она теперь была в моих руках! Стоило мне сказать одно
слово – и он навсегда лишился бы своих земель, состояния, звания баронета.
Одно мое слово – и он был бы выброшен из жизни, без поддержки,
отверженный, никому не нужный. Все будущее этого человека висело на волоске,
зависело от меня – и он знал это сейчас так же хорошо, как я.
Эта
мысль отрезвила меня. Интересы, более дорогие мне, чем мои собственные,
зависели от осторожности, которая должна была теперь руководить малейшими моими
поступками. От сэра Персиваля можно было всего ожидать. Не было вероломства, на
которое не отважился бы теперь этот доведенный до крайности отъявленный
негодяй. В той крайней, безвыходной опасности, в которой он очутился, он пойдет
на все, решится на любое преступление – буквально ни перед чем не
остановится, чтобы спасти себя.
На
минуту я задумался. Необходимо было закрепить свидетельство, только что мной открытое,
записать его на случай, если б со мной случилось какое-то несчастье. Надо было
обеспечить сохранность этого свидетельства от сэра Персиваля и поставить вне
пределов его досягаемости. Можно было не беспокоиться за копию метрической
книги, надежно спрятанную в сейфе мистера Уансборо. Но подлинник в ризнице, как
я убедился в этом своими глазами, был далеко не в таком положении.
Ввиду
всего этого я решил немедленно вернуться в старую церковь, снова обратиться к
помощи причетника и сделать нужную мне выписку из метрической книги прежде, чем
я вернусь в отель. Я тогда еще не знал, что нужна нотариально заверенная копия
и что моя собственная выписка не может представлять документального
доказательства. Я не знал этого и ни к кому не мог обратиться за нужными по
этому вопросу разъяснениями, так как хотел сохранить свои намерения в тайне.
Моим
единственным желанием было как можно скорее вернуться в Старый Уэлмингам.
Мистеру Уансборо я объяснил, как сумел, свое несколько странное поведение,
которое, по-видимому, бросилось ему в глаза; положил гонорар на его стол;
условился, что через день-два напишу ему, и покинул его контору с пылающей
головой, с бьющимся сердцем, весь в лихорадочном жару.
Смеркалось.
Меня осенила мысль, что мои преследователи, возможно, снова пойдут за мной и,
по всей вероятности, на этот раз нападут на меня по дороге.
Палка,
которая была со мной, была легкой и не годилась для самозащиты. Прежде чем
выйти за пределы Нолсбери, я зашел в лавку и купил крепкую деревенскую дубинку,
короткую и тяжелую. С этим незатейливым оружием я мог дать отпор любому
противнику. Если бы на меня напали двое, я мог удрать. В школьные дни я был
хорошим бегуном, а в Центральной Америке во время экспедиции у меня была
неплохая практика.
Я вышел
из городка быстрым шагом, держась посередине дороги.
Моросил
мелкий дождь, и сначала трудно было сказать, шел ли кто за мной или нет. Но,
пройдя полдороги, милях в двух от церкви я увидел сквозь сетку дождя бегущего
ко мне человека и услышал, как где-то неподалеку захлопнулась калитка. Я спешил
вперед с дубинкой наготове, напряженно вслушиваясь и вглядываясь в темноту. Не
сделал я и сотни шагов, как за придорожной изгородью послышался шорох, и три
человека выскочили на дорогу. Я сейчас же свернул на тропу. Два человека
пробежали мимо меня прежде, чем успели спохватиться. Но третий был быстрый, как
молния. Он остановился, полуобернулся и изо всех сил ударил меня палкой. Он
целился наугад, и потому удар не был сильным. Палка обрушилась на мое плечо. Я
ударил его дубинкой по голове. Он попятился и столкнулся со своими товарищами
как раз в ту минуту, когда они бросились ко мне. Благодаря этому я мог
опередить их и пуститься наутек. Я проскользнул мимо них и помчался посередине
дороги.
Двое
непострадавших бежали за мной. Бежали быстро; дорога была ровной и гладкой, и
первые пять минут я чувствовал, что не опережаю их. Я слышал за спиной их частое
дыхание. Опасно было бежать в темноте. Я еле различал смутные очертания
изгороди по обеим сторонам дороги, и любое препятствие опрокинуло бы меня
навзничь. Вскоре я почувствовал, что дорога идет вниз, потом снова начался
подъем. Двое начали догонять меня, но я снова ушел от них на довольно далекое
расстояние. Быстрый топот ног за моей спиной стал тише, и я понял, что они
достаточно далеко. Теперь с дороги я мог свернуть в поле – они пробегут
дальше, не заметив моего исчезновения. Я бросился к первому же отверстию в
изгороди, которое я скорее угадал, чем увидел. Оказалось, что это запертая
калитка; я перелез через нее и зашагал прямо по полю, удаляясь от дороги. Я
слышал, как те двое пробежали мимо калитки, потом один из них остановился и
позвал другого. Мне было безразлично, что бы они ни делали теперь, – они
больше не могли ни видеть, ни слышать меня.
Я шел
через поле и, дойдя до края, остановился на минутку, чтобы отдышаться. Нечего
было и думать о возвращении на дорогу, но я был твердо намерен сегодня же
вечером быть в Старом Уэлмингаме.
Ни луны,
ни звезд на небе, по которым я мог бы ориентироваться. Я знал только, что,
когда уходил в Нолсбери, ветер дул мне в спину, – если он будет снова дуть
мне в спину, я буду по крайней мере идти в прежнем направлении.
Поэтому
я пошел вперед, встречая на своем пути препятствия в виде изгородей, рвов,
канав и кустарников, из-за которых иногда замедлял свои шаги и немного
сворачивал в сторону, пока не дошел до холма, круто спускавшегося вниз. Я
спустился, перелез через изгородь и вышел на лужайку. Перед этим я свернул с
большой дороги и пошел направо, теперь я свернул налево, желая выправить тот
путь, от которого отдалился. Шлепая по лужам минут десять или больше, я вдруг
увидел коттедж с освещенным окном. Садовая калитка была отперта, и я вышел на
лужайку к дому, чтобы постучаться и спросить, где я нахожусь.
Не успел
я постучать, как дверь коттеджа внезапно открылась, и навстречу мне выбежал
человек с фонарем в руках. При виде меня он остановился и поднял фонарь. Мы оба
отпрянули друг от друга. Мои блуждания привели меня на окраину Старого
Уэлмингама. Человек с фонарем был не кто иной, как мой утренний знакомый –
церковный причетник... С тех пор как я видел его в последний раз, манеры его
странным образом изменились. Он выглядел взволнованным и обескураженным, его
румяные щеки пылали, и, когда он заговорил, первые его слова показались мне
совершенно невразумительными.
– Где
ключи? – спрашивал он. – Вы брали их?
– Какие
ключи? – переспросил я. – Я только что пришел из Нолсбери. О каких
ключах вы говорите?
– Ключи
от ризницы! Боже спаси и помилуй нас! Что же мне делать? Ключи исчезли! Вы
слышите? – закричал старик, в волнении махая фонарем в мою сторону. –
Ключи исчезли!
– Как?
Когда? Кто мог взять их?
– Не
знаю, – сказал старик, бесцельно вглядываясь в темноту обезумевшими
глазами. – Я только что вернулся. Я говорил вам утром, что сегодня у меня
много работы; запер двери и закрыл окно – теперь оно открыто, окно
открыто! Смотрите! Кто-то влез в окно и взял ключи!
Он
повернулся к окну, чтобы показать мне, как широко оно распахнуто. Дверца фонаря
открылась, и ветер мгновенно задул свечу.
– Зажигайте
фонарь, – сказал я, – идемте в ризницу вместе. Скорей! Скорей!
Я
торопил его. Предательство, ожидать которое я имел все основания и которое
могло лишить меня всего, чего я достиг, совершалось, возможно, в эту самую
минуту! Мое нетерпеливое желание поскорее быть в церкви было столь велико, что
я не мог оставаться в бездействии, пока причетник зажигал свой фонарь. Я пошел
по садовой дорожке через лужайку.
Не
прошел я и десяти шагов, как из темноты возник какой-то человек и приблизился
ко мне. Он почтительно заговорил со мной. Я не мог разглядеть его лица, но,
судя по голосу, не знал его.
– Простите,
сэр Персиваль... – начал он.
Я
прервал его.
– Вы
ошиблись в темноте, – сказал я, – я не сэр Персиваль.
Человек
отшатнулся.
– Я
думал, это мой хозяин, – пробормотал он смущенно и неуверенно.
– Вы
ждали здесь вашего хозяина?
– Мне
было приказано ждать на лужайке.
С этими
словами он отошел. Я оглянулся на коттедж и увидел, что причетник идет ко мне с
зажженным фонарем. Я взял старика под руку, чтобы помочь ему. Мы пошли через
лужайку мимо того человека, который заговорил со мной. Насколько я мог судить
при неясном свете фонаря, он был лакеем, хотя ливреи на нем не было.
– Кто
это? – шепнул мне причетник. – Не знает ли он чего про ключи?
– Нам
некогда расспрашивать его, – отвечал я, – скорей в ризницу!
Даже
днем увидеть отсюда церковь можно было только пройдя через всю лужайку. Когда
мы стали подниматься в гору, какой-то деревенский мальчик, привлеченный светом
нашего фонаря, подбежал к нам и узнал причетника.
– Эй,
мистер, – сказал он, дергая причетника за сюртук, – в церкви кто-то
есть. Я слышал, как он запер за собой двери, я видел, как он зажег там спичку!
Причетник
задрожал и тяжело оперся на меня.
– Идемте,
идемте! – сказал я ободряюще. – Мы не опоздали. Мы его поймаем, кто
бы он ни был. Держите фонарь и следуйте за мной. Только поскорей!
Я быстро
взобрался на холм. Темный силуэт церкви смутно вырисовывался на фоне ночного
неба. Повернув, чтобы подойти к двери ризницы, я услышал за собой тяжелые шаги.
Лакей шел следом за нами.
– У
меня нет дурных намерений, – сказал он, когда я обернулся к нему. – Я
только ищу своего хозяина.
В голосе
его звучал неподдельный страх. Не обращая на него внимания, я поспешил дальше.
В ту же
минуту, как я завернул за угол и вышел к ризнице, я увидел, что слуховое окно,
выходившее на крышу, ярко осветилось изнутри. Оно сияло ослепительно ярким
светом под сумрачным, беззвездным небом. Я бросился через церковный дворик к
дверям ризницы.
Странный
запах распространялся в сыром ночном воздухе. Я услышал глухой треск, я увидел,
как свет наверху разгорается ярче и ярче, звякнуло стекло. Я подбежал к двери,
чтобы открыть ее. Ризница была в огне!
Не успел
я сделать движение, не успел перевести дыхание при виде этого зрелища, как замер
от ужаса, услышав тяжелый стук в дверь изнутри. Кто-то яростно силился
повернуть ключ в замке, за дверью кто-то дико, пронзительно закричал, призывая
на помощь.
Лакей,
следовавший за мной, отшатнулся и упал на колени.
– О
Господи, – воскликнул он, – это сэр Персиваль!
Причетник
подбежал к нам, и в то же мгновение снова, в последний раз, раздалось отчаянное
лязганье ключа в замке.
– Боже,
спаси его душу! – закричал старик. – Он погиб! Он сломал ключ.
Я
кинулся к двери. Мгновенно из моей памяти исчезла единственная цель, в
последнее время владевшая всеми моими помыслами, управлявшая всеми моими
действиями. Всякое воспоминание о бессердечном злодеянии, совершенном этим
человеком, – о любви, невинности, счастье, которые он так безжалостно
попрал ногами, о клятве, которую я дал себе в глубине сердца, что приведу его к
ответу, ибо он заслужил это, – как сон, улетучилось из моих мыслей. Я
сознавал только ужас его положения. Я чувствовал только, что должен во что бы
то ни стало спасти его от страшной гибели.
– Откройте
другую дверь! – крикнул я. – Дверь в церковь! Замок сломан. Спешите,
не то вы погибли!
Крик о
помощи не повторился после того, как ключ лязгнул в замке в последний раз. Ни
один звук, свидетельствующий о том, что сэр Персиваль еще жив, не доносился до
нас. Слышались треск бушующего пламени да резкое щелканье лопающихся от жара
стекол вверху.
Я
оглянулся на двух моих спутников. Лакей поднялся на ноги, он держал фонарь и
тупо смотрел на дверь. Ужас, казалось, превратил его в полного идиота; он ходил
за мной по пятам, как собака. Причетник стонал, скорчившись на одной из
могильных плит, он весь дрожал и что-то приговаривал... Достаточно было
взглянуть на них обоих, чтобы понять их беспомощность!
Почти не
отдавая себе отчета в своих действиях, под влиянием первого порыва я схватил
лакея за плечи и толкнул его к стенке ризницы.
– Стойте! –
сказал я. – Держитесь за стену. Я встану на вас и попробую влезть на
крышу, чтобы сломать слуховое окно, иначе он задохнется!
Слуга
дрожал с головы до ног, но держался крепко. Зажав дубинку в зубах, я влез ему
на спину, достал до парапета, схватился за него обеими руками и в один миг был
на крыше. В неистовой поспешности и волнении этой минуты мне не пришло в
голову, что я даю выход пламени, вместо того чтобы дать доступ воздуху. Я
ударил по окну, и остатки стекол разбились вдребезги. Огонь, как дикий зверь из
своего логова, с яростью выпрыгнул наружу. Если бы ветер дул в мою сторону, от
меня, наверно, не осталось бы ничего. Я припал к крыше. Дым и пламя проносились
над моей головой. Вспышки и взрывы огня освещали внизу лицо слуги, тупо
уставившегося в стену, причетника, вставшего с могильной плиты и в отчаянии
ломавшего руки, горсточку жителей деревни, растерянных мужчин и перепуганных
женщин, столпившихся за церковной оградой. Они возникали во тьме, когда
вспыхивали огромные огненные языки, и исчезали за клубами дыма. А тот, в
ризнице, задыхался, умирал так близко от нас, и мы не могли, не в нашей власти
было до него добраться!
Я
обезумел от этой мысли. Уцепившись руками за крышу, я спрыгнул вниз.
– Ключ
от церкви! – крикнул я причетнику. – Мы должны попробовать с той
стороны – мы еще можем спасти его, если разломаем ту дверь!
– Нет,
нет! – с отчаянием отозвался старик. – Надежды нет! Ключи от церкви и
от ризницы в одной связке – они здесь, внутри! О, сэр, его уже ничто не
спасет, он погиб, он уже сгорел.
– Пожар
увидят из города, – сказал чей-то голос среди мужчин, стоявших позади
нас. – У них есть пожарная машина. Они спасут церковь.
Я
окликнул этого человека – он сохранил присутствие духа – и заговорил
с ним. В лучшем случае пожарная машина могла прибыть только через четверть
часа. Невыносимо было оставаться в бездействии все это время. Вопреки разуму я
убедил себя, что обреченный, погибший человек в ризнице, возможно, лежит без
чувств, возможно, еще жив. Если мы сломаем дверь, мы, может быть, спасем его! Я
знал, как упорны массивные замки, как непроницаемы дубовые, обитые гвоздями
двери, я знал, как безнадежно пытаться взломать их обычными средствами. Но в
полуразрушенных коттеджах близ церкви должны были сохраниться балки. Что, если
вооружиться балкой и использовать ее как таран?
Этa
мысль мелькнула в моем мозгу, как вспышка огня, извергавшегося через слуховое окно.
Я бросился к человеку, говорившему про пожарную машину:
– Есть
у вас кирки, мотыги?
– Да,
есть.
– Топоры,
пилы, кусок веревки?
– Да,
да, да!
Я
заметался среди толпы с фонарем в руке:
– Пять
шиллингов каждому, кто мне поможет!
При этих
словах они будто проснулись. Ненасытный голод, вечный спутник нищеты, и жажда
заработка в один миг побудили их к беспорядочной деятельности.
– Двое –
за фонарями, если они у вас есть! Двое – за топорами и инструментами!
Остальные за мной – за балкой!
Они
оживились, послышались резкие, отрывистые восклицания. Женщины и дети бросились
в сторону. Мы ринулись гурьбой к первому нежилому дому. Только причетник,
бедный старый причетник, остался позади. Стоя на могильной плите, он рыдал,
оплакивая церковь. Лакей следовал за мной по пятам – порой я видел его
бледное, искаженное от ужаса, растерянное лицо. Когда мы ворвались в дом, на
полу лежали разбросанные стропила, но они не годились, они были слишком
легкими. Над нашими головами пролегала балка, мы могли достать до нее топорами.
Балка была накрепко вделана в стены с обоих концов. Потолок и пол были содраны,
огромный пролом в крыше зиял прямо в небо. Мы набросились на балку. Как она
упорствовала, как сопротивлялись нам стенные кирпичи и цемент! Мы ломали,
рубили, рвали. Балка поддалась с одного конца и рухнула, за ней полетели
кирпичи. Вскрикнули женщины, сгрудившиеся в дверях и смотревшие на нас,
закричали мужчины, двое из них упали, но не расшиблись. Еще одно совместное
усилие – и мы высвободили другой конец балки. Взвалив ее на плечи, мы
приказали посторониться. А теперь за дело! К двери! Пламя несется к небу, все
ярче освещая нам путь! Осторожней по дороге к церкви – бей с разбегу в
дверь! Раз, два, три – стоп! Неудержимо несутся крики. Мы расшатали дверь.
Если запор не поддастся – она соскочит с петель. Еще раз, с разбегу! Раз,
два, три – стоп! Закачалась! Через пробоины пламя устремляется к нам. Еще
раз навались, в последний! Дверь с треском рухнула. Мгновенно наступила
гробовая тишина. Мы ищем глазами тело. Нестерпимый жар опаляет наши лица и
заставляет нас отступить. Мы не видим ничего – вверху, внизу, повсюду не
видно ничего, кроме сплошного огненного вихря.
– Где
он? – шепнул лакей, тупо глядя на пламя.
– Он
сгорел дотла! – простонал причетник. – И книги сгорели дотла. О, сэр!
Скоро и от церкви останется только пепел.
Они были
единственными, кто заговорил. Когда они замолчали, в ночном безмолвии слышалось
только, как бушевал пожар.
Чу!
Неровный, грохочущий звук издали – глухое цоканье копыт, мчащихся галопом,
потом все усиливающийся рев человеческих голосов, крики. Наконец-то пожарная
команда! Люди вокруг меня бросились к краю холма, навстречу пожарным. Старый
причетник попытался бежать вместе с ними, но силы оставили его. Я увидел, как, держась
за один из надгробных памятников, он слабо закричал: «Спасите церковь!» Как
будто пожарные могли услышать его. «Спасите церковь!»
Только
лакей не шевелился. Он стоял, глядя на пламя пустым, безучастным взором. Я заговорил
с ним, я потряс его руку. Но ничто не могло вывести его из столбняка. Он шепнул
еще раз:
– Где
он?
Через
десять минут пожарная машина была готова, насос опустили в колодец за церковью,
шланг подвели к дверям ризницы. Если б моя помощь понадобилась, я не мог бы
оказать ее сейчас. Моя энергия иссякла, силы мои истощились, вихрь моих мыслей
мгновенно замер, затих, когда я понял, что он уже мертв. Я стоял беспомощно, я
был бесполезен, я смотрел, смотрел не отрываясь в горящую комнату.
Пожар
медленно затихал. Яркий огонь потускнел, дым подымался к небу белыми клубами;
сквозь него виднелись красно-черные груды тлеющих углей на полу ризницы.
Еще
минута – и пожарные вместе с полицейскими бросились вперед к двери,
раздались негромкие восклицания, потом два человека отделились от остальных и прошли
через толпу за церковную ограду. В мертвом молчании люди расступались, чтобы
дать им пройти.
Через
несколько минут толпа дрогнула, и живая стена медленно раздвинулась снова. Двое
шли обратно и несли сорванную с петель дверь одного из нежилых домов. Они
внесли ее в ризницу. Полицейские столпились у обгоревшего входа, мужчины по
двое, по трое старались заглянуть им через плечо. Другие стояли подле, чтобы
первыми услышать. Среди них были женщины и дети.
Вести из
ризницы быстро облетели толпу – их передавали из уст в уста, пока они не
долетели до того места, где я стоял. Я услышал, как спрашивали и отвечали
вокруг меня приглушенно, взволнованно.
– Его
нашли?
– Да.
– Где?
– У
двери, он лежал ничком.
– У
какой двери?
– У
двери в церковь – он лежал головой к двери, ничком.
– А
лицо сгорело?
– Нет.
– Да,
сгорело.
– Нет,
только обгорело. Он лежал ничком, лицом вниз, я же сказал.
– А
кто он был?
– Лорд,
говорят.
– Нет,
не лорд. Сэр, что ли. Сэр – значит дворянин.
– Баронет
он был.
– Нет.
– Да.
– А
что ему здесь понадобилось?
– Верно,
замышлял что-нибудь недоброе, уж я вам говорю!
– Это
он нарочно?
– Нарочно
сгорел!
– Да
я не о нем – я о ризнице. Он ее нарочно поджег?
– Очень
страшно смотреть на него?
– Страшно!
– А
лицо?
– Нет,
лицо ничего.
– Кто-нибудь
его знает?
– Вон
тот человек говорит, что знает.
– Кто?
– Говорят,
лакей. Но он будто умом тронулся, и полиция ему не верит.
– А
никто другой не знает, кто он такой?
– Ш-ш!
Тише.
Громкий,
уверенный голос кого-то из полисменов заставил утихнуть глухой ропот вокруг меня.
– Где
джентльмен, который пытался спасти его? – сказал голос.
– Здесь,
сэр, вот он! – Десятки взволнованных лиц повернулись ко мне, десятки рук
раздвинули толпу, кто-то подошел ко мне с фонарем в руках.
– Пожалуйте
сюда, сэр, – негромко сказал он.
Я был не
в силах говорить с ним, я был не в силах сопротивляться, когда он взял меня за
руку. Я попытался сказать, что никогда не видел умершего при жизни, что я не
могу опознать его, что я совершенно посторонний человек. Но говорить я не мог.
Я был близок к обмороку, я беспомощно молчал.
– Вы
знаете его, сэр?
Вокруг
меня кольцом стояли люди. Трое из них опустили фонари вниз. Их взгляды и
взгляды всех остальных были устремлены на меня в немом ожидании. Я знал, что
лежит у моих ног, я понимал, почему они опустили фонари так низко.
– Можете
вы опознать его, сэр?
Мои
глаза медленно опустились. Сначала я ничего не увидел, кроме грубого брезента.
Скупые капли дождя падали на него, глухо отдаваясь в гробовой тишине. Я перевел
взгляд – там, в конце, в желтом свете фонаря, застывшее, зловещее,
обугленное, смотрело в небо его мертвое лицо. Так в первый и последний раз я
увидел его. Так волею судеб мы встретились наконец.
XI
По
некоторым местным причинам, имевшим значение для следователя и городских властей,
с судебным дознанием спешили – оно происходило на следующий же день. Мне
пришлось присутствовать в качестве одного из свидетелей, вызванных в суд для
расследования пожара.
Утром я
первым долгом пошел на почту справиться, нет ли там для меня письма от Мэриан.
Никакая перемена обстоятельств, какой бы необычной она ни была, не могла
повлиять на мою главную заботу, пока я был вдали от Лондона. Утреннее письмо от
Мэриан было для меня единственной возможностью узнать, не случилось ли в мое
отсутствие какого несчастья с Лорой или с ней самой. День мой всегда начинался
с этой главной заботы.
К моей
радости, на почте меня ждало письмо от Мэриан. Ничего не случилось – они
обе были в целости и сохранности, как и в день моего отъезда. Лора посылала мне
сердечный привет и просила, чтобы я обязательно за день сообщил ей о своем
приезде. Ее сестра добавляла в пояснение, что Лора сэкономила «почти соверен»
из собственного заработка и требовала, чтобы ей разрешили самой приготовить
обед, долженствующий отпраздновать мое возвращение. Солнечным утром я читал эти
маленькие домашние новости, а передо мной так живо, так ярко вставали ужасные
воспоминания прошлой ночи. Необходимо было уберечь Лору от возможности случайно
узнать правду – это было моей первой мыслью, когда я прочитал письмо. Я сейчас
же написал Мэриан и рассказал ей все, что уже рассказал на этих страницах,
описывая ей происшедшее так постепенно и осторожно, как только мог, и
предупреждая ее о том, чтобы никакие газеты ни в коем случае не попадались Лоре
на глаза до моего возвращения. Если б на месте Мэриан была другая женщина,
менее мужественная и менее надежная, я, может быть, не решился бы открыть ей
всю правду. Но Мэриан полностью заслуживала моего доверия, как я знал по опыту
прошлого, – я мог всецело положиться на нее. Письмо мое было длинным. Я
был занят им до самого судебного дознания.
Следствие
было очень затруднено в силу всяческих осложнений. Надо было выяснить не только
вопрос о гибели человека, но и причину возникновения пожара, а также каким
образом были похищены ключи и почему в ризнице во время пожара находился
посторонний. Пока что не установили даже личности покойного. Полиция не
доверяла словам лакея, что он опознал своего хозяина, ибо несчастный слуга был
в состоянии полной невменяемости. Послали в Нолсбери за теми, кто был хорошо
знаком с внешностью сэра Персиваля Глайда, и с утра связались с
Блэкуотер-Парком. Благодаря принятым мерам следователь и понятые смогли наконец
совершенно точно установить личность погибшего и подтвердить истинность слов
лакея. Свидетельства разных лиц подтвердились осмотром часов покойного, на
внутренней крышке которых были выгравированы герб и имя сэра Персиваля Глайда.
Затем
стали разбирать вопрос о возникновении пожара. В качестве свидетеля первыми вызвали
меня, лакея и мальчика, увидевшего, как в ризнице зажгли спичку. Мальчик
отвечал на вопросы вполне вразумительно, но несчастный лакей не мог прийти в
себя после вчерашнего ужасного происшествия – всем было ясно, что он ничем
не может помочь следствию, и его отпустили.
К моему
облегчению, мой допрос был очень кратким. Я не был знаком с покойным, никогда
раньше его не видел, не знал, что он находился в Старом Уэлмингаме, и, когда
тело было обнаружено, меня в ризнице не было. Я мог только сказать, что зашел в
коттедж причетника, чтобы попросить его указать мне дорогу в Уэлмингам; от него
узнал об исчезновении ключей и пошел вместе с ним в церковь, чтобы в случае
надобности помочь ему; увидев пожар, услышал, как какой-то неизвестный в
ризнице напрасно пытался отпереть дверь, и сделал все, что мог, из чисто
гуманных побуждений, чтобы спасти несчастного. Других свидетелей, знавших
покойного, спрашивали, чем могут они объяснить похищение ключей и присутствие
сэра Глайда в охваченной пожаром комнате. Но следователь, по-видимому, считал,
что я, как посторонний человек в городе, незнакомый с сэром Персивалем Глайдом,
не могу, само собой разумеется, представить никаких объяснений по этим двум
вопросам.
Когда
официальный допрос окончился, мне уже было ясно, как я должен вести себя в дальнейшем.
Я не чувствовал себя обязанным давать добровольные показания, ибо сейчас они не
имели бы никакого практического значения. Все доказательства моей правоты
сгорели вместе с метрической книгой. Кроме того, если б я заговорил и высказал
свое мнение обо всем этом, мне пришлось бы рассказать и про историю Лоры, а
это, безусловно, произвело бы на следователя и на присяжных такое же
неубедительное впечатление, как и на мистера Кирла.
Но
теперь, на этих страницах, по прошествии стольких лет, я могу высказаться
совершенно беспрепятственно. Прежде чем мое перо начнет описывать последующие
события, я напишу вкратце, как представляю себе то, что произошло в ризнице,
начиная с похищения ключей, возникновения пожара и, наконец, смерти этого
человека. Узнав, что я отпущен на поруки, сэр Персиваль, по-видимому, решил
прибегнуть к крайним мерам. Одной из них было нападение на меня, когда я шел в
Старый Уэлмингам. Второй мерой, несравненно более верной, как он правильно
считал, было уничтожение всех доказательств его преступления путем похищения
страницы, на которой был произведен подлог. Если б я не мог представить выписки
из подлинной книги для сравнения с дубликатом книги в Нолсбери, у меня не было
бы никаких улик и я бы не мог больше угрожать ему роковым разоблачением. Для
достижения этой цели ему достаточно было войти в ризницу незамеченным, вырвать
нужную ему страницу из метрической книги и таким же путем выйти оттуда.
Легко
понять, почему он ждал наступления вечера, чтобы выполнить задуманное, и почему
воспользовался отсутствием причетника, чтобы взять ключи. Необходимость
заставила его зажечь свет в ризнице, чтобы найти нужную ему книгу, а простая
предосторожность подсказала, что надо закрыть дверь изнутри, на случай
вторжения какого-нибудь любознательного прохожего.
Я не
думаю, чтобы в его намерение входило поджечь церковь и таким образом уничтожить
метрическую книгу. Ведь пожар могли затушить и книгу спасти. Этого было
достаточно, чтобы мысль о поджоге исчезла из его головы так же быстро, как и
зародилась в ней. Учитывая количество горючего материала в ризнице –
солому, бумаги, ящики, сухое дерево, изъеденные червями шкафы и разный
хлам, – по всей вероятности, пожар произошел совершенно случайно от зажженной
спички.
Первым
его побуждением при этих обстоятельствах было, несомненно, затушить огонь; не
преуспев в этом, он (не зная состояния замка) пытался отпереть дверь, через
которую вошел. Когда я позвал его, пламя уже охватило шкафы и другие легко
воспламеняющиеся предметы, которые стояли недалеко от дверей, ведущих в
церковь. По всей вероятности, огонь и дым были уже настолько сильны, что он был
не в силах бороться с ними, когда пытался открыть внутреннюю дверь. Когда я
влез на крышу и разбил слуховое окно, он уже лежал без сознания на том самом
месте, где его нашли. Даже если б мы могли проникнуть в церковь и взломать
дверь с другой стороны, опоздание было бы роковым: к этому времени его уже
нельзя было спасти – мы только дали бы возможность огню перекинуться в
церковь, и тогда ее постигла бы та же участь, что и сгоревшую ризницу. Теперь
же сама церковь уцелела. У меня, как и у других, не возникает сомнений, что,
когда мы побежали в пустой коттедж и изо всех сил старались добыть балку, он
был уже мертв. Вот, с моей точки зрения, приблизительное истолкование тех
фактов, очевидцами которых мы были. Так произошло описанное мной событие. Так
было найдено его тело.
Судебное
дознание отложили на день. Пока что законные власти не могли найти никакого
объяснения таинственным обстоятельствам этого дела.
Намеревались
пригласить еще свидетелей, в том числе и поверенного покойного сэра Персиваля
Глайда из Лондона. Местному доктору было поручено освидетельствовать умственные
способности лакея, ибо в том состоянии, в котором он теперь находился, он был
не способен давать какие-либо показания. Он мог только с совершенно растерянным
видом заявить, что в ночь, когда произошел пожар, ему было приказано ждать на
лужайке; он ничего больше не знает, кроме того, что покойный был его хозяином.
У меня
создалось впечатление, что с его помощью (в чем он был не виноват, ибо,
конечно, не был посвящен в подробности) установили отсутствие причетника в
доме, а затем ему приказали ждать неподалеку от церкви (не приближаясь, однако,
к ризнице); он должен был помочь хозяину справиться со мной в случае, если б я,
избежав нападения на дороге, встретился с сэром Персивалем. Необходимо
прибавить, что от лакея так никогда ничего и не добились. Медицинской
экспертизой было установлено, что в результате пожара и гибели хозяина его
умственные способности серьезно расстроены. Во время следующего судебного
заседания он по-прежнему не мог дать никаких удовлетворительных показаний и
очень возможно не оправился от этого потрясения и по сей день.
Я
вернулся в отель в Уэлмингаме в подавленном настроении, усталый и измученный
всем, что произошло. Я был не в силах слышать местные сплетни о судебном
дознании и отвечать на вопросы, которые мне задавали посетители ресторана при
отеле. Покончив с моим скромным обедом, я удалился в мою каморку под чердаком,
чтобы немного отдохнуть и подумать на свободе о Лоре и Мэриан.
Если б я
был богаче, я бы в тот же вечер съездил в Лондон, чтобы посмотреть на моих дорогих
и любимых. Но завтра я должен был присутствовать на судебном заседании (на
случай, если мои показания еще понадобятся), а главное, мне надо было
обязательно предстать перед мировым судьей в Нолсбери. Наши скромные средства
уже истощились, а сомнительное будущее – теперь еще более сомнительное,
чем когда-либо, – заставляло меня опасаться лишних расходов и не разрешало
мне съездить в Лондон и обратно даже по недорогому билету второго класса.
На
следующий день после судебного следствия я был предоставлен самому себе. Я
начал утро с того, что пошел, как обычно, на почту за письмом Мэриан. Оно ждало
меня и было бодрым и жизнерадостным. Я с благодарностью прочитал письмо и с
облегченным сердцем направился в Старый Уэлмингам, чтобы взглянуть на пожарище
при дневном свете.
Какие
перемены ждали меня, когда я туда пришел! На всех путях нашего непонятного мира
обычное и необычайное идут рука об руку. Любые катастрофы всегда сопровождаются
самыми обыденными, подчас смешными подробностями. Когда я подошел к церкви,
лишь вытоптанные дорожки маленького кладбища свидетельствовали о недавнем
пожарище и гибели человека. Двери ризницы были наскоро заколочены досками. На
досках были уже намалеваны грубые карикатуры. Деревенские мальчишки с криками
ссорились за лучшую дырочку, чтобы взглянуть внутрь. На том самом месте, где я
стоял вчера, когда из пылающей ризницы до меня донесся исступленный крик о
помощи, на том самом месте, где лакей в ужасе упал на колени, сегодня стая кур
хлопотливо рылась в земле в поисках дождевых червей. А на земле, у моих ног,
там, где накануне опустили страшную ношу, стояла сейчас миска с обедом
какого-то рабочего, и его верный сторож – пес тявкал на меня за то, что я
стою слишком близко к собственности его хозяина. Старый причетник, праздно
наблюдавший за неспешными работами по ремонту церкви, мог говорить только на
одну тему, интересовавшую его: как избежать ответственности за случившееся.
Одна из деревенских жительниц, чье бледное от ужаса лицо запомнилось мне, когда
мы отдирали балку, пересмеивалась сейчас с другой женщиной над старым корытом с
грязным бельем. Нет в смертных настоящей серьезности! Сам Соломон во всей своей
славе был всего только Соломоном, не лишенным тех обычных слабостей, которые
присущи каждому из нас.
Когда я
уходил, мысли мои снова вернулись к тому, о чем я уже думал: надежда установить
личность Лоры путем признания сэра Персиваля не могла теперь осуществиться. Он умер –
с ним погибло то, что составляло цель всех моих стремлений и надежд.
Но может
быть, теперешнее положение вещей следовало рассматривать с другой, более
правильной точки зрения?
Предположим,
он остался бы в живых – что изменилось бы от этого? Мог ли я – даже
во имя Лоры – пригрозить ему публичным разоблачением его тайны, когда я
выяснил, что преступление сэра Персиваля состояло в том, что он присвоил себе
права другого человека? Мог ли я ценой моего молчания предложить ему сознаться
в заговоре против Лоры, когда я знал, что в результате моего молчания настоящий
наследник лишен законно перешедшего ему по наследству поместья, а также
принадлежащего ему по праву титула и звания? Нет! Если б сэр Персиваль был жив,
его тайна, от которой, не зная ее подлинной сути, я так много ждал, не была бы
моей. Я не имел права ни умолчать о ней, ни обнародовать ее, даже во имя
восстановления попранных прав Лоры. Из простой честности я был обязан
немедленно отправиться к тому незнакомому мне человеку, чье наследство и титул
были похищены сэром Персивалем. Я был обязан отказаться от моей победы,
полностью передав ее в руки тому незнакомцу. И снова очутился бы лицом к лицу с
прежними трудностями, так же как стоял перед ними сейчас! Мне предстояло
бороться дальше. Я был готов к этому.
В
Уэлмингам я вернулся несколько успокоенный, чувствуя еще большую уверенность в
своих силах, чем раньше, и с непоколебимым решением довести дело до конца. На
пути в отель я прошел через сквер, где жила миссис Катерик. Не зайти ли к ней и
не повидать ли ее? Нет. Неожиданная весть о смерти сэра Персиваля уже донеслась
до нее несколько часов назад. Местные утренние газеты напечатали подробный
отчет о судебном дознании – ничего нового к тому, что она уже знала, я
прибавить не мог. У меня пропало желание, чтобы она проговорилась. Мне
припомнилось, какая ненависть промелькнула на ее лице, когда она сказала: «Я не
жду никаких вестей о сэре Персивале, кроме вести о его смерти». Я припомнил, с
каким скрытым интересом она разглядывала меня, когда я собрался уходить. И
какое-то чувство в моем сердце – я знал, что чувство это
правильное, – делало для меня новую встречу с ней немыслимой. Я свернул на
другую улицу, в сторону от сквера, и пошел прямо к себе в отель.
Когда
несколько часов спустя я сидел в ресторации, ко мне подошел слуга и подал
письмо, адресованное на мое имя. Мне сказали, что в сумерки, как раз перед тем,
как зажглись газовые фонари, его принесла какая-то женщина. Прежде чем могли
заговорить с ней или разглядеть ее, она ушла, не сказав ни слова.
Я
распечатал письмо. Ни числа, ни подписи на нем не было. Почерк был явно
измененный. Но, не прочитав и первой строчки, я понял, что писала миссис
Катерик. Я переписал письмо дословно. Вот оно.
|


