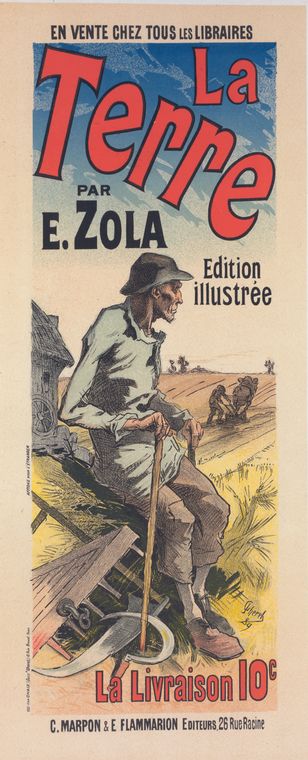
 Увеличить Увеличить |
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
I
Было четыре часа утра. Только‑только начинало светать,
занималась заря одного из первых майских дней. Ферма Бордери еще дремала под
бледнеющим небосводом, погруженная в полумрак. По трем сторонам большого
квадратного двора тянулись длинные постройки: в глубине находилась овчарня,
направо – амбары, налево – хлев, конюшня и жилой дом. Запертые железным засовом
ворота закрывали четвертую сторону. Большой желтый петух, взобравшись на
сваленный в яму навоз, пронзительно, как рожок, возвещал о наступлении часа
пробуждения. Ему ответил другой петух, потом третий. Призыв повторялся, все
удаляясь, передаваясь с фермы на ферму, по всей Бос, от одного края до другого.
В эту ночь, как бывало почти всегда, Урдекен явился к
Жаклине. Она спала в маленькой комнатке, предназначенной для служанки и
украшенной хозяином цветистыми обоями, коленкоровыми занавесками и мебелью из
красного дерева. Несмотря на все возраставшее влияние на Урдекена, Жаклина
встречала резкий отпор, как только заговаривала о своем переселении в комнату
его покойной жены, супружескую спальню, которую он ргевниво охранял от Жаклины,
движимый последними остатками уважения к умершей. Жаклину это крайне обижало:
она отлично понимала, что до тех пор не станет настоящей хозяйкой, пока не
ляжет спать на старинную дубовую кровать под балдахином из красной бумажной
материи.
Жаклина проснулась, как только рассвело, и лежала на спине,
с широко раскрытыми глазами. Фермер, рядом с ней, еще храпел. Черные глаза
Жаклины грезили в этой возбуждающей духоте общего ложа, ее гибкое обнаженное
тело вздрагивало. Некоторое время она медлила в нерешительности. Потом,
подобрав рубашку, она легко и без шума перелезла через Урдекена, так что он
даже и не проснулся. Так же неслышно надела она дрожащими от сильного
возбуждения руками нижнюю юбку, но вдруг наткнулась на стул. Тогда Урдекен
открыл глаза.
– Это что? Ты одеваешься?.. Куда ты?
– Меня беспокоит хлеб, – пойду посмотрю.
Урдекен снова задремал, что‑то бормоча, удивленный поводом
для такого раннего вставания и тяжело соображая сквозь сон. Странное желание!
Хлеб мог великолепно обойтись без нее в этот час. И внезапно он окончательно
проснулся, словно уколотый подозрением. Не видя Жаклины подле себя, он
растерянно оглядывал помутневшими глазами комнату для прислуги, в которой находились
его туфли, трубка и бритва. Эта мошенница опять, наверное, воспылала страстью к
кому‑нибудь из конюхов! Через две минуты он уже совсем пришел в себя, и перед
ним ясно встало все его прошлое.
Его отец, Исидор Урдекен, принадлежал к роду, происходившему
из Клуа, где предки его когда‑то крестьянствовали, а в шестнадцатом веке стали
горожанами. Все они служили в соляном ведомстве: кто был кладовщиком в Шартре,
кто контролером в Шатодене. Исидор, рано оставшись сиротою, обладал состоянием,
доходившим до шестидесяти тысяч франков, и в двадцатишестилетнем возрасте,
когда Великая революция лишила его места, решил увеличить свое состояние,
воспользовавшись распродажей национального имущества этими разбойниками‑республиканцами.
Он великолепно знал окрестные земли, долго разнюхивал, высчитывал и наконец
заплатил тридцать тысяч франков за сто пятьдесят гектаров Бордери, –
последний остаток владения Ронь‑Букевалей. Эта сумма не составляла и пятой
части действительной стоимости покупки. Среди крестьян не нашлось ни одного,
который решился бы рискнуть деньгами. Одни только буржуа, стряпчие и финансовые
дельцы нажились на конфискации земель, осуществленной Революцией. Впрочем,
покупка, совершенная Урдекеном, являлась простой спекуляцией, так как он имел
намерение избавиться от фермы, перепродать ее за настоящую цену, когда улягутся
волнения, и таким образом получить впятеро больше, чем было уплачено им самим.
Тем временем наступила Директория, земельная собственность продолжала
обесцениваться, и он уже не мог думать о выгодной сделке. Земля держала его, он
становился ее пленником до такой степени, что, упорствуя в своем стремлении
разбогатеть, он уже не хотел упустить из рук ни одного клочка, решив добывать
средства из самой земли и этим путем, нажить большое состояние. Тогда же он
женился на дочери соседнего фермера, которая принесла в приданое еще пятьдесят
гектаров. Таким образом, в общем получилось двести, и горожанин, триста лет
назад оторвавшийся от крестьянского корня, вернулся к сельскому хозяйству, но
уже в крупном масштабе, вступив в ряды новой земельной аристократии, пришедшей
на смену всесильной феодальной знати.
Его единственный сын, Александр Урдекен, родился в 1804
году. Годы учения в шатоденском коллеже были для него мукой. Чувствуя страстное
влечение к земле, он предпочел вернуться и помогать отцу, развеяв тем самым
новую его мечту: видя, как медленно наживается богатство в сельском хозяйстве,
отец был не прочь продать землю и определить сына на путь какой‑нибудь
свободной профессии. Молодому человеку было двадцать семь лет, когда он, по
смерти отца, сделался владельцем Бордери. Он стоял за новые методы и поэтому,
намереваясь жениться, мечтал не об увеличении земельной собственности, а прежде
всего о деньгах. По его мнению, жалкое прозябание хозяйства фермы имело
единственной причиной недостаток денежных средств. Ему удалось найти желанное
приданое, составлявшее пятьдесят тысяч франков; оно было принесено в дом одной
из сестер нотариуса Байаша, зрелой девицей, уродливой, но кроткой, которая была
на пять лет старше мужа. Тогда началась длительная борьба между ним и его
двумястами гектарами земли, борьба, сперва сдержанная, но затем, под влиянием
неудач, становившаяся все более и более яростной. Эта борьба велась ежегодно,
ежедневно и, не сделав его богачом, позволила ему, тем не менее, вести широкий
образ жизни здорового сангвиника, который принял за правило никогда не
сдерживать своих аппетитов. Потом дела пошли еще хуже. Жена подарила ему двоих
детей: один из них, мальчик, возненавидел сельское хозяйство, пошел на военную
службу и недавно, после Сольферино, был произведен в капитаны. Другим ребенком
была нежная и прелестная девочка, его любимица. Поскольку неблагодарный сын
скитался в поисках приключений, Урдекен сделал ее наследницей всего поместья.
Сперва, в разгар уборки урожая, скончалась его жена. Следующей осенью он
потерял дочь. Это было для него страшным ударом. Капитан показывался на родине
не чаще, чем раз в год, и Урдекен неожиданно оказался обреченным на
одиночество, без всякой надежды на будущее, не имея в работе стимула,
побуждающего трудиться ради потомства. Но, несмотря на то, что где‑то в глубине
его души кровоточила рана, он не пал духом, остался настойчивым и властным. Не
обращая внимания на крестьян, насмехавшихся над его машинами и желавших разорения
горожанину, который имел смелость взяться за их ремесло, он продолжал
упорствовать. Да и что же оставалось делать? Власть земли над ним становилась
все сильнее и сильнее, вложенный в хозяйство труд и капитал с каждым днем
привязывали к ней все крепче и крепче. Освободить от земли его мог только крах.
Урдекен, широкоплечий, с красным лицом и маленькими руками, выдававшими его
буржуазное происхождение, был самцом‑деспотом для своих служанок. Он брал их
всех без исключения, даже при жизни жены, причем совершал это как самую
обыкновенную вещь, не считаясь ни с какими возможными последствиями. Если
бедным крестьянским девушкам, идущим в портнихи, удается иногда сохранить себя,
то ни одна из поступающих работать на ферму не может избежать мужчины, будь то
работник или сам хозяин. Г‑жа Урдекен была еще жива, когда в Бордери поступила
Жаклина. Ее приняли из милости, потому что отец девчонки, старый пьянчуга
Конье, не окупился на нещадные побои, так что дочь его стала такой тщедушной и
худой, что можно было, казалось, рассмотреть сквозь истрепанное платье все ее
кости. При этом она была настолько некрасива, что мальчишки улюлюкали ей вслед.
Жаклине нельзя было дать тогда больше пятнадцати лет, хотя ей было уже почти
восемнадцать. Она помогала служанке исполнять самую черную работу: мыть посуду,
подметать двор, – убирать в хлеву за скотом, и от этого была всегда так
грязна, точно находила в грязи удовольствие. Впрочем, после смерти фермерши она
стала выглядеть как будто немного почище. Все работники по очереди валили
Жаклину на солому, ни один из поступавших на ферму не упускал случая потискать
ее, а в один прекрасный день на нее покусился и сам хозяин, спустившийся вместе
с девушкой в погреб. Раньше он пренебрегал ею, а теперь решил не отставать от
других и испробовать прелести этой неопрятной дурнушки. Но она бешено
защищалась, исцарапала и искусала его, так что ему пришлось отступить. С тех
пор ее карьера была сделана. Она сопротивлялась в течение полугода, но потом
отдалась, уступая понемногу, по маленькому кусочку обнаженного тела. Со двора
она перешла на кухню, получив звание служанки, затем устроилась так, что у нее
самой уже была девчонка‑помощница; в конце концов, сделавшись настоящей дамой,
она завела себе свою собственную прислугу. Оборванная грязнуха превратилась
теперь в смуглую, привлекательную девушку, с красивой грудью, гибкую и сильную
при кажущейся худобе. Она оказалась большой кокеткой, чуть ли не купалась в
духах и в то же время оставалась по‑прежнему крайне нечистоплотной. Жители Рони
и соседние земледельцы не переставали удивляться судьбе Жаклины: мыслимо ли,
чтобы такой богач по уши врезался в этакую дрянь, некрасивую и худую дочь
Конье, того самого Конье, который в течение двадцати лет дробил щебень на
дорогах! Нечего сказать, хорош тесть, хороша девка! Крестьяне даже не понимали,
что эта распутница была их местью ферме, возмездием забитого труженика
разжиревшему буржуа, превратившемуся в крупного землевладельца. Дожив до
пятидесяти пяти лет, этого критического возраста, Урдекен целиком отдался своей
страсти, испытывая чисто физическую потребность в Жаклине, нуждаясь в ней так
же, как в хлебе и воде. Когда она почему‑либо хотела быть ласковой с ним, она
льнула к нему, как кошка, предоставляя ему возможность самых разнузданных
наслаждений, решаясь без всякого стеснения на такие вещи, на которые бывают не
способны даже публичные женщины. Ради этих минут Урдекен шел на унижение,
умолял Жаклину не уходить от него после ссор, после тех ужасных вспышек
возмущения, когда он грозился вышвырнуть ее пинками ноги за дверь.
Всего лишь накануне она получила от Урдекена пощечину за то,
что устроила сцену, требуя пустить ее спать на той самой кровати, где
скончалась его жена. После этого в течение всей ночи она не позволяла взять
себя, награждая его оплеухами, как только он приближался. Продолжая доставлять
себе удовольствие с рабочими фермы, Жаклина, чтобы укрепить власть над
Урдекеном, томила его вынужденным воздержанием. Поэтому сегодня утром, когда он
остался один в этой промозглой комнате и еще ощущал теплоту ее тела в измятой
постели, им снова овладело чувство гнева и неудержимого желания. Фермеру давно
уже казалось, что служанка беспрестанно ему изменяет. Вскочив с постели, он
громко воскликнул:
– Ну, уж если я тебя накрою, паскуда!..
Он быстро оделся и сошел вниз.
Жаклина неслышно прошла через все комнаты еще спавшего дома,
освещенного слабыми проблесками утренней зари. Заметив на дворе уже
поднявшегося пастуха, старика Суласа, она отшатнулась. Но ее возбуждение было
так велико, что она пошла дальше, не обращая на него внимания. А, все равно!
Миновав конюшню, где, кроме пятнадцати лошадей, ночевали также четыре
работника, она направилась в глубину двора, где под навесом спал Жан: постель
его состояла из простой соломы, на которой он и лежал, укутавшись в одеяло, без
простыней. Жаклина обняла спящего, зажимая ему рот поцелуем. Охваченная дрожью,
прерывающимся от волнения голосом она прошептала:
– Это я, дурашка! Не бойся же… Скорее, скорее!
Однако он испугался. Боясь, что их застанут, он никогда не
хотел этого здесь, в своей собственной постели. Рядом была лестница на сеновал,
куда они и залезли, не закрыв за собою люка. Там они повалились на сено.
– Ах, дурашка, дурашка, – повторяла млеющая
Жаклина своим клокочущим в горле голосом, который, казалось, поднимался из
самой глубины ее чрева.
Жан Маккар работал на ферме около двух лет. По окончании
военной службы он попал в Базош‑ле‑Дуайен вместе с одним своим товарищем, также
столяром по профессии, и начал работать у его отца, мелкого деревенского
предпринимателя, нанимавшего двух‑трех рабочих. Но ремесло уже не доставляло
ему никакого удовлетворения. За семь лет службы Жан настолько развратился и
отвык от привычной работы с пилой и рубанком, что, казалось, стал совершенно
другим человеком. Когда‑то в Плассане он, не слишком способный к учению, едва
умея читать, писать и считать, здорово работал по дереву. Благоразумный, очень
усердный, Жан стремился создать себе независимое положение, отделиться от своей
ужасной семьи. Старик Маккар держал Жана в подчинении, как девчонку, выманивал
у него из‑под носа любовниц, каждую субботу приходил в мастерскую и отбирал
заработанные им деньги. Когда мать Жана умерла от побоев и изнурения, он не
замедлил последовать примеру сестры Жервезы, сбежавшей в Париж со своим
любовником, и удрал из дома, не желая больше кормить бездельника‑отца. Теперь
же Жан изменился до неузнаваемости: не то, чтобы он стал ленив, но пребывание в
полку очень расширило его кругозор. Политика, к которой раньше он был
равнодушен, теперь чрезвычайно занимала его, и он охотно пускался в рассуждения
о равенстве и братстве. Кроме того, сказалась привычка к праздному
времяпрепровождению, утомительное и бессмысленное стояние в карауле, сонное
однообразие казарменной жизни и беспорядочная жестокость военного времени. И
вот инструменты начали валиться у него из рук, он предавался воспоминаниям об
итальянской кампании, испытывал необоримую потребность в отдыхе, желание
растянуться на траве и забыться.
Однажды утром, хозяин послал Жана в Бордери работать по
ремонту. Дела должно было хватить на целый месяц; надо было настелить новые
полы в доме, починить чуть ли не на всей ферме двери и окна. Довольный этим
случаем, Жан растянул работу недель на шесть. Тем временем владелец мастерской
успел умереть, а сын его женился и переселился на родину своей жены. Жан
продолжал жить в Бордери, где все еще отыскивались какие‑нибудь гнилые части
деревянных строений, требовавшие замены; теперь он уже работал поденно от себя.
Когда же наступила уборка хлеба, он взялся помогать, и это заняло еще полтора
месяца. Видя, как он втянулся в сельские работы, фермер решил оставить его
насовсем. Меньше чем за год столяр превратился в хорошего батрака, возил хлеб,
пахал, сеял, косил, умиротворенный соприкосновением с землей, в надежде, что
именно она‑то и даст ему необходимое душевное спокойствие. Прощай, пила и
рубанок! Казалось, он с его мудрой медлительностью и любовью к размеренному
деревенскому труду, с его унаследованной от матери выносливостью тягловой
скотины был рожден для этих полей. Вначале Жан ходил, как очарованный, он
наслаждался окружающей природой, которую не замечают крестьяне, воспринимал ее
сквозь призму когда‑то прочитанных сентиментальных повестей и идей о красоте,
добродетели и полном счастье, заполняющих нравоучительные сказки для детей.
Сказать по правде, пребывание на ферме нравилось ему и по
другой причине. Как‑то, когда он еще занимался починкой дверей, дочка Конье
явилась к нему и растянулась на стружках. Приглашение шло с ее стороны –
крепкое телосложение Жана, правильные и крупные черты его лица, указывавшие на
то, что он должен быть хорошим самцом, соблазняли ее. Жан уступил ей раз, потом
еще, так как не хотел, чтобы его считали дураком, да, кроме того, он и сам
начинал чувствовать влечение к этой развратнице, отлично умевшей возбуждать
мужчин. Правда, где‑то в глубине души его прирожденная честность протестовала.
Не дело путаться с любовницей г‑на Урдекена, которому он был признателен.
Разумеется, Жан пытался всячески оправдать себя: Жаклина не была женой
Урдекена, он жил с ней, как с потаскухой, а раз уж она изменяла хозяину на
каждом углу, – лучше воспользоваться самому, чем предоставлять
удовольствие другим. Однако оправдания эти не могли заглушить росшее в нем
неприятное чувство, тем более что он видел, как фермером овладевала все большая
и большая привязанность к Жаклине. Конечно, дело в конце концов обернется
скверно.
Лежа на сене, Жан и Жакяина старались дышать неслышно. Жан,
будучи все время настороже, вдруг услышал, что лестница затрещала. Он вскочил
и, рискуя сломать себе шею, прыгнул в проем, через который сбрасывали для скота
сено. В ту же самую минуту в люке показалась голова Урдекена. Фермер успел
заметить тень убегавшего мужчины и живот еще лежавшей навзничь, с раскинутыми
ногами, женщины. Его обуяла такая дикая ярость, что он не догадался спуститься
вниз и посмотреть, кто же был кавалером, а, размахнувшись, дал поднявшейся тем
временем на колени Жаклине оплеуху, способную оглушить быка, от которой та
снова повалилась.
– А, б…!
Жаклина завыла как бешеная, отрицая очевидное:
– Неправда!
Он еле сдержался, чтобы не ударить каблуком по животу этой
пришедшей в раж самки, – по животу, который он только что видел
обнаженным.
– Я сам видел!.. Признавайся сейчас же, или я тебя
пристукну!
– Нет, неправда! Неправда!
Когда же Жаклина наконец поднялась на ноги и оправила юбку,
то, решив поставить на карту все свое положение, она приняла наглый и
вызывающий вид.
– А если и так! Тебе‑то какое дело? Что я тебе – жена?
Если ты не хочешь, чтобы я спала в твоей постели, я могу спать там, где мне
нравится.
Ее голос похотливо заворковал, как бы насмехаясь над ним.
– Ну‑ка, пусти меня, я сойду вниз… А вечером уйду
совсем.
– Сию же минуту!
– Нет, вечером… А ты пока подумай.
Он дрожал и не знал, на ком сорвать свою злобу. Если у него
уже не хватало мужества вышвырнуть сейчас же за дверь Жаклину, то с каким
удовольствием выгнал бы он ее любовника! Но где его теперь поймаешь? Раскрытые
двери указывали Урдекену, куда надо было идти, и он прошел прямо на сеновал, не
посмотрев на постели. Когда он спустился вниз, четыре работника уже одевались,
одевался и Жан в глубине своего навеса. Который же из пяти? Может быть, этот,
может быть, тот; а может быть – и все пятеро, один за другим. Он надеялся, что
виновник чем‑нибудь выдаст себя, отдал приказания на утро, не послал никого в
поле и остался сам дома, сжимая кулаки и рыща по ферме, бросая украдкой взгляды
то туда, то сюда и желая кого‑нибудь прихлопнуть. После первого завтрака,
который подавался в семь часов, этот обход разъяренного хозяина повергнул всех
в страх. В Бордери было пять плугарей, по числу имевшихся плугов, три
молотильщика, два скотника, пастух и свинопас – всего двенадцать работников, не
считая стряпухи. Сначала, зайдя на кухню, он обругал стряпуху за то, что та не
убрала на место лопаты для хлебов. Затем он сунулся в оба овина; один из них
был предназначен для овса, а другой, громадных размеров, высокий, как церковь,
с пятиметровыми воротами, – для хлеба. Там он привязался к молотильщикам,
которые якобы слишком крепко били цепами, так что солома дробилась. Оттуда он
прошел в коровник, и, увидев, что все тридцать коров были в отличном состоянии,
что средний проход между хлевами был начисто вымыт, а кормушки вычищены, он
пришел в бешенство. Не зная, к чему бы придраться, он вышел снова во двор и,
взглянув на баки с водой, за которыми должны были следить те же работники,
заметил в одной из сточных. труб воробьиное гнездо. В Бордери, как и на всех
других фермах босского края, дождевую воду тщательно собирали с крыш при помощи
сложной системы стоков. Фермер грубо спросил, не хотят ли из‑за воробьев
оставить его без воды. Но настоящая гроза разразилась, когда он дошел до
работников, ухаживавших за лошадьми. Хотя в конюшне у всех пятнадцати лошадей
была свежая подстилка, он начал кричать, что это черт знает что – оставлять им
подобную гниль. Устыдившись своей несправедливости и еще более отчаявшись,
Урдекен продолжал свой обход и осмотрел все четыре навеса, где хранился
инвентарь. Он обрадовался, когда заметил, что рукоятки у одного из плугов треснули.
Тут он вышел из себя. Так эти пять мерзавцев ради забавы ломают его орудия?! Он
поставит им это в счет, всем пятерым! Да, всем пятерым, чтобы никому не было
обидно! Осыпая их ругательствами, он горящими глазами жадно всматривался в
каждого из них, надеясь, что прохвост побледнеет или выдаст себя невольной
дрожью. Никто не пошевелился, и он, махнув рукой, ушел.
Заканчивая свой обход осмотром овчарни, Урдекен вдруг решил
обратиться к пастуху Суласу. Этот шестидесятипятилетний старик служил на ферме
около полувека, но ничего не сумел скопить, так как его вконец разоряла жена,
пьяница и потаскуха, которую он недавно с радостью похоронил. Он боялся, что
ему из‑за преклонного возраста скоро придется остаться без работы. Конечно,
может быть, хозяин окажет ему некоторую поддержку, но кто поручится, что хозяин
не умрет первым? Да и можно ли от хозяев ожидать, что они расщедрятся на
табачок и вино? Кроме того, с Жаклиной они были врагами: он презирал ее, питая
к ней ненависть старого слуги, которого терзала ревность и возмущение при виде
того, как быстро идет в гору эта недавняя пришелица. Теперь, когда она
командовала им, он, видевший вее в грязных лохмотьях и в навозе, был вне себя
от негодования. Конечно, если бы она могла, она немедленно выгнала бы его. Поэтому
Сулас был осторожен. Он не хотел терять место и избегал какого‑либо конфликта,
хотя и чувствовал за собой некоторую поддержку со стороны хозяина.
Овчарня занимала все строение, расположенное в глубине
двора. Восемьсот овец, насчитывавшихся на ферме, помещались в узком сарае,
имевшем восемьдесят метров в длину, и разделялись только перегородками: здесь –
матки по различным группам, там – ягнята, дальше – бараны. Двухмесячных
барашков, предназначенных для продажи, кастрировали, овечек же сохраняли для
обновления стада маток, а самых старых овец продавали. В определенное время
года ярок покрывали бараны, представлявшие собою помесь дишлейской породы с
мериносами. Пышные, глупые и кроткие на вид, с тяжелыми головами и большими
круглыми носами, они были похожи на чувственных людей. Всякого, кто входил в
овчарню, обдавал терпкий аммиачный запах, исходивший от старой
подстилки, – на нее только один раз в три месяца накладывали свежую
солому. Кормушки, устроенные вдоль стен, можно было подвешивать все выше, по
мере того как поднимался слой навоза. Воздух в овчарню все‑таки проникал –
через большие окна и щели в потолке, который служил полом помещавшемуся наверху
сеновалу и состоял из досок, частично убиравшихся, когда запас фуража
уменьшался. Впрочем, на ферме считали, что животная теплота, брожение мягкого,
перепрелого навоза были очень полезны для овец.
Открыв одну из дверей, ведущих в овчарню, Урдекен заметил,
как в другую скрылась Жаклина. Она тоже думала о Суласе, обеспокоенная тем, что
тот, конечно, выследил ее с Жаном. Но старик был невозмутим и, казалось, не
понимал, ради чего она с ним, против обыкновения, так приветлива. При виде ее в
овчарне, куда она обычно никогда не заходила, фермер затрясся как в лихорадке.
– Ну что, дядюшка Сулас, – спросил он, – есть
у вас сегодня какие‑либо новости?
Долговязый, тощий пастух с вытянутым и испещренным морщинами
лицом, как бы вырезанным из древесины суковатого дуба, медленно ответил:
– Нет, господин Урдекен, решительно никаких, разве что
пришли стригуны и сейчас примутся за работу.
Хозяин поболтал еще кое о чем, чтобы старик не догадался об
истинной цели его прихода. Овец, которых держали в овчарне с самого начала
ноября, со дня всех святых, скоро, к середине мая, должны были выпустить на
клевер. Коров же выгоняли в поле только после жатвы. Бос, несмотря на сухой
климат и отсутствие естественных пастбищ, давала, однако, хорошее мясо. Если в
ней не занимались по‑настоящему животноводством, то причиной этого была только
приверженность к старым традициям и лень. Даже свиней на фермах откармливали не
более пяти – шести штук, предназначая их только для домашнего потребления.
Урдекен гладил своими горячими руками подбежавших овец,
вытягивавших кверху морды с кроткими и светлыми глазами; ягнята же, запертые в
дальнем отделении, с блеянием лезли к перегородке.
Так значит, дядюшка Сулас, вы ничего не видали сегодня
утром? – снова спросил он, глядя пастуху прямо в глаза.
Старик, конечно, видел, но был ли смысл говорить об этом?
Покойница жена, потаскуха и пьяница, научила его, что значит женское распутство
и мужская глупость. А что, если изобличенная им Жаклина одержит верх? Тогда
удар обрушится на его спину и от него непременно постараются избавиться, как от
свидетеля, служащего помехой.
– Ничего не видал, ничего, – повторил он еще раз,
смотря своими поблекшими глазами, с застывшим выражением лица.
Проходя снова через двор, Урдекен заметил, что Жаклина
стояла там, возбужденная, насторожившись, обеспокоенная разговором,
происходившим в овчарне. Она делала вид, что занята птицей, – шестьюстами
курами, утками и голубями, которые хлопали крыльями, переваливались и копались
в навозной яме среди непрекращающегося гама. Свинопас, несший ведро свежей воды
в свинарню, разлил его по дороге, и это позволило Жаклине несколько разрядить
свое нервное напряжение затрещиной, которую она влепила мальчишке. Однако,
украдкой взглянув на фермера, она успокоилась, – было ясно, что фермер
ничего не узнал: старый пастух держал язык за зубами. Наглость ее после этого
возросла еще более.
За полдником она вела себя с вызывающей веселостью. Так как
большие работы еще не начинались, на ферме ели только четыре раза в сутки:
молочную тюрю в семь часов, жаркое в двенадцать, хлеб с сыром в четыре и,
наконец, суп и сало в восемь вечера. Для еды собирались в кухню, просторную
горницу с длинным столом и скамейками по обе его стороны. О некотором прогрессе
здесь говорила только чугунная плита, занимавшая один из углов огромного очага.
В глубине его зияла черная пасть печи, вдоль прокопченных стен сверкали
кастрюли и вытянулись в ряд предметы старой кухонной утвари. Стряпуха, толстая
некрасивая девка, пекла этим утром хлеб, и его горячий запах поднимался из
оставленного открытым ларя, куда он был сложен.
– Вы, видно, уже набил себе сегодня желудок? –
развязно спросила Жаклина у входившего последним Урдекена.
После смерти жены и дочери Урдекен, чтобы не есть в
одиночестве, садился за один стол со своими работниками, как это водилось в
прежние времена. Он устраивался за одним концом стола, а за другим восседала
его служанка‑любовница. Всего было четырнадцать человек, стряпуха подавала.
Когда фермер, ничего не ответив, уселся на свое место,
Жаклина заявила, что жаркое надо приправить. Приправа состояла из тоненьких
гренков, которые разламывались в миске на мелкие кусочки и затем поливались
вином и патокой. Жаклина потребовала дополнительную порцию, делая вид, что
хочет побаловать мужчин; она отпускала такие шуточки, что все сидящие за столом
покатывались со смеху. Каждая ее фраза была двусмысленной и напоминала о том,
что вечером она покинет ферму: раз сегодня предстояло расстаться, нужно, чтобы
каждый сунул напоследок в соус свой палец, а то уж больше этого делать не
придется – кто сегодня прозевает, тот впоследствии пожалеет. Пастух ел с тупым
выражением лица; хозяин сидел молча и, казалось, тоже ничего не понимал. Жан,
чтобы не выдать себя, принужденно смеялся вместе с остальными, хотя ему и было
не по себе.
После завтрака Урдекен отдал распоряжение на вторую половину
дня. В поле остались незаконченными лишь самые мелкие работы: нужно было
обкатать овес и перепахать пар, пока еще не настало время косить люцерну и
клевер. Поэтому он велел Жану и еще двум работникам остаться дома и чистить
сеновал. В ушах Урдекена стоял звон от пережитого нервного возбуждения, и,
чувствуя себя крайне подавленным и несчастным, он начал бродить по ферме в
поисках какого‑нибудь занятия, которое могло бы заглушить его тоску. Под одним
из навесов в углу двора расположились рабочие, пришедшие стричь овец. Он встал
напротив и уставился на них.
Их было пятеро. Это были изнуренные, желтолицые парни. Они
сидели на корточках, в их руках сверкали огромные стальные ножницы. Пастух
приносил им связанных овец и клал их рядком на утрамбованную землю, где они
лежали, как бурдюки, не имея возможности пошевелиться, и только блеяли,
поднимая головы. Когда один из стригущих брал овцу в руки, та покорно
замолкала, раздувая свои бока, покрытые густой шерстью, превратившейся от пыли
и пота в сплошную черную корку. Под быстрыми ножницами животное совершенно
оголялось, выходя из клубов руна, как обнаженная рука выходит из черной
перчатки, становилось розовым и свежим в золотисто‑белом подшерстке. Одна из
маток, зажатая между коленями большого сухопарого парня, лежа на спине, с
раскинутыми ногами и вытянутой головой, выставила напоказ сокровенную белизну
своего живота, по которому пробегала мелкая дрожь, как у человека, которого
раздевают. Стригуны зарабатывали по три су на каждой овце, а тот из них, кто
хорошо работал, мог остричь до двадцати голов в день.
Углубившись в свои мысли, Урдекен думал о том, что цена на
шерсть упала до восьми су за фунт, нужно было торопиться продать ее, чтобы она
не успела пересохнуть и потерять в весе. В прошлом году в Бос много скота
погибло от язвы. Дела шли хуже и хуже, надвигалось разорение, над хозяйством
нависла угроза полного банкротства, так как с каждым месяцем за хлеб давали все
меньше и меньше. Охваченный своими земледельческими заботами, задыхаясь в
четырех стенах двора, фермер пошел посмотреть на поле. Его ссоры с Жаклиной
всегда оканчивались таким образом: после буйных вспышек гнева, когда он в
ярости сжимал кулаки, Урдекен уступал, подавленный страданием, которое
облегчалось одним только созерцанием зеленых хлебов и овсов, простиравшихся в
бесконечность.
Ах, эта земля! Как он ее в конце концов полюбил! Полюбил
страстной любовью, любовью, которая питалась не одной лишь черствой мужицкой
скупостью, любовью сентиментальной, почти духовной! Он чувствовал в земле мать
всего сущего, – она дала ему жизнь, его плоть и кровь, в нее со временем
он вернется. Сперва, когда он, воспитанный в деревне, был еще совсем юным, его
ненависть к училищу, желание сжечь свои учебники проистекали из простой
привычки к свободе, к беганью по пашням, к пьянящему простору полей, открытых
всем ветрам. Позднее, сделавшись преемником отца, он полюбил землю, как
женщину. Любовь стала более зрелой, точно земля была отныне его законной женой,
которую он должен оплодотворить. Эта нежная привязанность к земле с течением
времени все усиливалась, по мере того, как он отдавал ей свое время, свои
деньги, самую жизнь, как хорошей и плодовитой жене, которой нельзя не простить
ни капризов, ни даже измен. Сколько раз выходил он из себя, когда земля,
высыхая или же слишком набухая влагой, безвозвратно пожирала все семена и
лишала его жатвы! Но потом он начинал сомневаться, винить самого себя,
бессильного и неумелого самца, который не способен сделать ей ребенка. Во время
этих сомнений он все больше и больше стал интересоваться современными методами,
пускаясь в разные новшества, сожалея, что в свое время бил баклуши в училище,
вместо того чтобы пройти курс в одной из сельскохозяйственных школ, над
которыми смеялся его отец и он сам. Сколько бесполезных попыток, неудавшихся
опытов! Сколько машин было поломано работниками, сколько разочарований
доставили ему негодные удобрения, купленные у мошенников торговцев! Он ухлопал
на хозяйство все свое состояние, а доходов, приносимых Бордери, едва хватало на
пропитание. Впереди же – сельскохозяйственный кризис, который прикончит его
совсем. Будь что будет! Он все равно до конца останется пленником своей земли,
своей жены, он отдаст ей на погребение свои кости.
В этот день, выйдя в поле, Урдекен вспомнил о своем сыне‑капитане.
Как хорошо было бы им работать вдвоем! Но он резко отогнал от себя воспоминание
об этом шалопае, предпочитавшем таскать саблю. Нет у него больше детей, он
окончит жизнь в одиночестве. Затем он стал думать о соседях и, прежде всего, о
Кокарах, землевладельцах, которые также занимались хозяйством на ферме Сен‑Жюст.
Их было семеро – отец, мать, три сына и две дочери, – а дело шло у них
нисколько не лучше. Робикэ, фермер в Шамад, срок аренды которого был на исходе,
перестал даже унавоживать землю, предоставляя добру пропадать. И так было
везде, везде дело шло плохо, – нужно работать до изнурения и не
жаловаться. Вид больших зеленых квадратов, вдоль которых он шел, начал мало‑помалу
оказывать на него свое умиротворяющее действие. Небольшие апрельские дожди
подняли хорошие кормовые травы. Розовый клевер привел его в восхищение, так что
он забыл обо всем остальном. Теперь он шел напрямик по пашне, чтобы посмотреть,
как работают оба пахаря. Земля прилипала к его ногам, жирная, плодородная, как
бы желая удержать хозяина в своих объятиях, она овладевала им целиком, а он,
чувствуя в себе прилив сил, как в те времена, когда ему было тридцать лет,
снова становился бодрым и жизнерадостным. Разве есть еще на свете другие
женщины, кроме нее? Разве они могли идти в счет, все эти Жаклины? Все равно,
какую из них ни возьми, любая – это посуда, из которой едят все без исключения,
так что приходится быть довольным, когда эта посуда хотя бы чисто вымыта. Такое
оправдание низменного пристрастия к этой потаскухе окончательно развеселило
его. Он прогулял целых три часа, пошутил со встреченной им служанкой Кокаров,
которая возвращалась из Клуа верхом на осле, показывая из‑под задравшейся юбки
свои ноги.
Когда Урдекен вернулся в Бордери, он увидел Жаклину во
дворе: она прощалась с кошками. На ферме их всегда было множество, точно даже
не знали, сколько именно, – двенадцать, пятнадцать, двадцать, – ибо
они котились где‑то под соломой и после исчезновения на некоторое время
появлялись в сопровождении выводка из пяти – шести детенышей. Затем она подошла
к конурам Императора и Душегуба, двух собак, стороживших стадо, но они
ненавидели ее и заворчали.
Несмотря на это прощание с животными, обед прошел, как
всегда. Хозяин ел и разговаривал в обычном для него тоне. А когда наступил
вечер, никаких разговоров об уходе уже не было. Все отправились спать, а
замолкшую ферму окутал мрак.
В ту же ночь Жаклина легла в спальне покойной г‑жи Урдекен.
Это была прекрасная комната с большой кроватью, стоявшей в глубине алькова,
затянутого красной материей. В ней находился также гардероб, маленький столик и
вольтеровское кресло. А над небольшим бюро из красного дерева сверкали за
стеклянными рамами медали, полученные фермером на сельскохозяйственных
выставках. Когда Жаклина в одной рубашке взобралась на супружескую постель и
вытянулась на ней, она широко раскинула руки и ноги, чтобы взять его целиком, и
засмеялась своим воркующим смехом горлицы.
На следующий день она снова начала ластиться к Жану, но тот
отпихнул ее. Раз дело начинало становиться серьезным, продолжать прежнее было
бы нечестно, он решительно этого не хотел.
|


