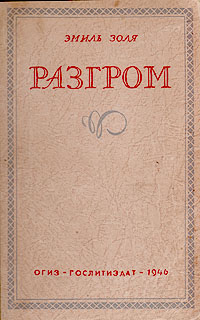
 Увеличить Увеличить |
VI
Делагерш поднялся на высокую террасу, чтобы взглянуть, как
идут дела; его опять охватило нетерпение. Он видел, что снаряды перелетают
через город и что три или четыре снаряда, которые пробили крыши соседних домов,
были только слабым ответом на редкие и недейственные выстрелы Палатинского
форта. Но он никак не мог разглядеть поле битвы и чувствовал потребность в
немедленных сведениях, тем более что опасался потерять в разразившейся
катастрофе свое состояние и жизнь. Он оставил на террасе подзорную трубу,
направленную на немецкие батареи, и сошел вниз.
Внизу он задержался на главном фабричном дворе. Было около
часа дня; лазарет переполняли раненые. В ворота въезжали все новые и новые
повозки. Обычных двухколесных и четырехколесных повозок уже не хватало.
Появились артиллерийские запасные и фуражные подводы, фургоны для боеприпасов –
все, что только можно найти на поле битвы; прибывали даже крестьянские
одноколки и тележки, взятые на фермах и запряженные бродячими лошадьми. Туда
втиснули перевязанных наспех людей, подобранных летучими лазаретами. Страшной
была эта выгрузка несчастных раненых; одни зелено‑бледные, другие багровые от
прилива крови; многие лежали без сознания; иные пронзительно кричали, другие,
казалось. были поражены столбняком и, озираясь испуганными глазами, отдавали
себя в руки санитаров; некоторые при первом прикосновении к ним содрогались и
тут же умирали. Везде было переполнено; все тюфяки в большом низком помещении
были заняты, и военный врач Бурош приказал разложить в углу широкую подстилку
из соломы. Он и его помощники пока справлялись с делом. Врач только потребовал
еще один стол с тюфяком и клеенкой для операций, которые производились под
навесом. Помощник быстро прикладывал к носу раненых салфетку, пропитанную
хлороформом. Сверкали тонкие стальные ножи, пилы чуть скрипели, как терки;
кровь лилась бурными струями, но ее тут же останавливали. То и дело приносили и
уносили оперируемых, люди сновали взад и вперед, едва успевали протереть мокрой
губкой клеенку. А на краю лужайки, за густым ракитником, пришлось устроить
свалку: туда бросали трупы, а также отрезанные руки и ноги, куски человеческого
мяса и осколки костей, оставшиеся на операционных столах. Старуха Делагерш и
Жильберта сидели под большим деревом; они едва успевали сворачивать бинты.
Прошел Бурош; его лицо пылало, халат был уже весь в крови; Бурош бросил
Делагершу сверток белья и крикнул:
– Нате! Делайте хоть что‑нибудь! Будьте полезны!
Но фабрикант возразил:
– Простите! Я должен пойти за известиями. Теперь уже не
знаешь, жив ты или нет.
И, поцеловав жену в голову, он прибавил:
– Бедная моя Жильберта! Подумать, что от одного снаряда
все может у нас сгореть! Ужасно!
Жильберта, бледная, подняла голову, обвела взглядом сад и
вздрогнула. Но тут же на ее лице опять заиграла невольная, неудержимая улыбка.
– О да! Ужасно! Несчастные, их все режут и режут!..
Странно! Я осталась здесь и до сих пор не упала в обморок.
Старуха Делагерш видела, как ее сын целует жену, подняла
руку, словно желая его отстранить, вспомнив о другом мужчине, который, наверно,
тоже целовал эти волосы ночью. Но ее старые руки задрожали, она прошептала:
– Боже! Сколько горя! Забываешь и свое!
Делагерш сказал, что сейчас вернется с точными сведениями, и
ушел. На улице Мака он с удивлением увидел, что в город возвращаются толпы
безоружных солдат в изодранных, запыленных, грязных мундирах. Он пытался
расспросить, что случилось, но не мог добиться толку: одни тупо отвечали, что
ничего не знают, другие в ответ выпаливали столько слов и так возбужденно
размахивали руками, что производили впечатление сумасшедших. Делагерш
бессознательно направился к префектуре, решив, что все известия прибывают туда.
Когда он переходил Школьную площадь, туда примчались и круто остановились у
тротуара две пушки. На Большой улице ему пришлось убедиться, что город уже переполнен
первыми беглецами; у ворот сидели три спешившихся гусара и делили хлеб; двое
других медленно вели под уздцы коней, не зная, в какую конюшню их поставить;
офицеры растерянно метались, по‑видимому не зная, куда деться. На площади
Тюренна какой‑то лейтенант посоветовал Делагершу не задерживаться: там сыплются
снаряды, одним осколком даже разбило решетку вокруг памятника великого
полководца, завоевавшего Пфальц. И правда, быстро проходя по улице Префектуры,
Делагерш увидел, как на Маасском мосту со страшным грохотом разорвались два
снаряда.
Он остановился как вкопанный у швейцарской, подыскивая
предлог, чтобы обратиться к одному из адъютантов и расспросить его, но вдруг
раздался юный голос:
– Господин Делагерш!.. Войдите скорей! На улице опасно!
Это была Роза, работница с его фабрики; о Розе он и не
подумал. Благодаря ей для него откроются все двери. Он вошел в швейцарскую и
присел.
– Представьте, мама от всего этого расхворалась и
слегла. Видите, я осталась одна; папа в национальной гвардии, в цитадели…
Только что император пожелал опять показать свою храбрость: он вышел, доехал до
угла, до моста. Перед ним даже упал снаряд; под одним придворным убило лошадь.
Император вернулся… Что ему остается делать, правда?
– Значит, вы знаете, как идут дела?.. Что говорят?
Девушка с удивлением взглянула на него. Она была попрежнему
свежа и весела, пышноволосая, светлоглазая, как ребенок, и суетилась среди этих
ужасов, не совсем понимая их.
– Нет, я ничего не знаю… В двенадцатом часу дня я
поднялась наверх и отнесла письмо маршалу Мак‑Магону. У него был император… Они
заперлись и беседовали около часа; маршал лежал в постели, император сидел
рядом на стуле… Это я знаю, потому что видела их, когда открыли дверь.
– А о чем они говорили?
Она опять взглянула на него и не могла удержаться от смеха.
– Да я не знаю. Откуда мне знать? Никто в целом мире не
знает, о чем они говорили.
Это была правда. Делагерш махнул рукой, словно извиняясь за
свой глупый вопрос. Но его мучила мысль о беседе императора с маршалом. Как это
интересно! Что же они в конце концов решили?
– Теперь император вернулся в свой кабинет. Он
совещается с двумя генералами, которые прибыли с поля сражения…
Посмотрев на подъезд, она вскрикнула:
– Смотрите! Вот идет генерал!.. А вот и другой!
Делагерш быстро вышел; он узнал генералов Дуэ и Дюкро; их
ждали кони. Оба генерала вскочили в седла и поскакали. После поражения на
плоскогорье Илли они примчались, каждый со своего участка, чтобы уведомить
императора, что битва проиграна. Они подробно и точно изложили положение дел:
армия и Седан окружены, предстоит страшный разгром.
Несколько минут император ходил взад и вперед по кабинету,
пошатываясь, как больной. При нем остался только адъютант, молча стоявший у
двери. А император все ходил от камина до окна; его изможденное лицо
подергивалось от нервного тика. Казалось, он еще больше сгорбился, словно под
обломками рухнувшего мира; а мертвенный взор, полузакрытый тяжелыми веками,
выражал покорность фаталиста, который проиграл року последнюю партию. И каждый
раз, проходя мимо приоткрытого окна, он вздрагивал и останавливался.
Во время одной из кратких остановок он поднял дрожащую руку
и прошептал:
– Ох, эти пушки! Эти пушки! Они гремят с самого утра!
И правда, гул батарей на холмах Марфэ и Френуа доносился с
необычайной силой. От их громовых раскатов дрожали стекла и даже стены; это был
упорный, беспрерывный, раздражающий грохот. Должно быть, император думал, что
теперь борьба безнадежна, всякое сопротивление становится преступным… К чему
проливать еще кровь? К чему раздробленные руки и ноги, оторванные головы, еще и
еще трупы, кроме трупов, разбросанных в полях? Ведь Франция побеждена! Ведь все
кончено! Зачем же убивать еще? И без того уже столько ужасов и мук взывает к
небу!
Подойдя опять к окну, император снова задрожал и поднял
руки.
– Ох, эти пушки! Эти пушки! Все стреляют и стреляют!
Быть может, ему являлась страшная мысль об ответственности,
его преследовало видение – окровавленные трупы людей, которые по его вине пали
там тысячами; а может быть, разжалобилось сердце мечтателя, одержимого
гуманными бреднями. Под страшным ударом рока, разбившего и унесшего его
счастье, словно соломинку, император плакал о других, обезумев, обессилев от
ненужной, нескончаемой бойни. Теперь от этой злодейской канонады разрывалась
его грудь, обострялась боль.
– Ох, эти пушки! Эти пушки! Заставьте их сейчас же
замолчать!
И в этом императоре, который лишился трона, передав власть
императрице‑регентше, в этом полководце, который больше не командовал, передав
верховное командование маршалу Базену, проснулось сознание могущества,
непреодолимая потребность стать властелином в последний раз. После Шалона он
отошел на задний план, не отдал ни одного приказания, смирился и стал
безыменной, лишней вещью, докучным тюком, который тащат в обозе войск. В нем
проснулся император только при поражении; и его первым, единственным приказом в
минуту смятения – и жалости было – поднять на цитадели белый флаг, попросить
перемирия.
– Ох, эти пушки! Эти пушки!.. Возьмите простыню,
скатерть, что угодно! Бегите! Скорей! Скажите, чтоб их заставили замолчать!
Адъютант поспешно вышел; император снова принялся ходить,
пошатываясь, от камина до окна, а пушки все гремели, и весь дом сотрясался.
Делагерш еще болтал внизу с Розой, как вдруг прибежал
дежурный сержант.
– Барышня! Никого не доищешься! Я не могу найти
горничной… Нет ли у вас тряпки, куска белого полотна?
– Хотите салфетку?
– Нет, салфетка слишком мала… Ну, хоть половину
простыни.
Роза услужливо бросилась к шкафу.
– Дело в том, что у меня нет разрезанной простыни… Большой
кусок белого полотна? Нет! Не знаю, что могло бы вас устроить… А‑а! Вот! Хотите
скатерть?
– Скатерть? Отлично! Как раз то, что надо! Уходя, он
прибавил:
– Из нее сделают белый флаг и поднимут на цитадели,
чтобы попросить мира… Спасибо, барышня!
Делагерш невольно привскочил от радости. Наконец можно
успокоиться! Однако проявление такой радости показалось ему не патриотичным, и
он ее подавил. Но от сердца у него все‑таки отлегло; он взглянул на полковника
и капитана, которые поспешно вышли из префектуры в сопровождении сержанта.
Полковник нес под мышкой свернутую скатерть. Делагерш решил пойти за ними и
попрощался с Розой. Она очень гордилась, что дала свою скатерть. Пробило два
часа.
У ратуши Делагерша затолкала целая толпа ошалелых солдат;
они шли из предместья Кассин. Он потерял полковника из виду и отказался от
удовольствия посмотреть, как на цитадели поднимут белый флаг. На башню его,
конечно, не пустят, к тому же в толпе говорили, что на школу сыплются снаряды.
И его охватила новая тревога: может быть, пока его не было дома, загорелась
фабрика? Он бросился туда; им опять овладело лихорадочное нетерпение;
поспешность, с какой он бежал, действовала на него успокоительно. Каждую улицу
преграждали толпы людей, на каждом перекрестке возникали препятствия. Только на
улице Мака он вздохнул полной грудью: огромный дом стоял нетронутый, ни дымка,
ни искры. Делагерш вошел и уже издали закричал матери и жене:
– Все идет хорошо! Поднимают белый флаг! Огонь
прекратят!
Но тут же он остановился: вид лазарета был поистине страшен.
Дверь в большую сушильню была настежь открыта; на всех
тюфяках лежали раненые; не оставалось места и на подстилке у стены. Начали
стлать солому даже между тюфяками; раненых клали тесно в ряд. Их было уже
больше двухсот, и все время прибывали новые. Из широких окон лился бледный
свет, озаряя несчастных страдальцев. Иногда слишком резкое движение вызывало у
какого‑нибудь раненого невольный крик, в сыром воздухе проносились хрипы
умирающих, в самой глубине не прекращался тихий, почти певучий стон. Молчание
становилось глуше, царило какое‑то покорное оцепенение, тоскливая мрачность,
как в доме, где поселилась смерть, и тишину нарушали только шаги и шепот
санитаров. Сквозь дыры шинелей и брюк видны были раны, наспех перевязанные на
поле битвы или зияющие во всем своем ужасе. Торчали раздавленные и
окровавленные, но еще обутые ступни; безжизненно висели руки и ноги, словно
перебитые молотком в локтях и коленях; сломанные, почти оторванные пальцы чуть
держались на лоскутках кожи. Больше всего было, кажется, раздробленных,
одеревеневших от боли, свинцово‑тяжелых рук и ног. Самыми страшными были раны в
живот, грудь или голову. Из чудовищно разодранных тел лилась кровь; под
вздувшейся кожей спутались узлом кишки; те, у кого была изрублена поясница,
извивались в неистовых корчах. У некоторых были пробиты навылет легкие, у одних
отверстие было таким маленьким, что даже не сочилась кровь, у других зияла
огромная рана, из которой красной струей истекала жизнь; а от невидимого
внутреннего кровоизлияния люди вдруг начинали бредить, чернели и умирали.
Больше всего пострадали головы: разбитые челюсти, кровавая каша из зубов и
языка, вышибленные из орбит, почти вылезшие глаза, вскрытые черепа, в которых
виднелся мозг. Все, кому пуля попала в спинной или головной мозг, лежали как
трупы, в полном оцепенении, в небытии, а те, у кого были переломы, метались в
лихорадке, просили пить глухим, умоляющим голосом.
Рядом, под навесом, было не менее ужасно. В этой сутолоке
производились только спешные операции, необходимые раненым, которые находились
в тяжелом состоянии. Если угрожало сильное кровотечение, Бурош немедленно
приступал к ампутации. Он также не откладывал дела, когда приходилось искать
осколки снарядов в глубоких ранах и извлекать их, если они ползли в опасное
место: в основание шеи, область подмышки, бедра, сгиб локтя или под колено.
Другие раны он предпочитал оставить под наблюдением; санитары по его указаниям
только перевязывали их. Он самолично произвел уже четыре ампутации, но не
подряд, – после каждой трудной операции он, для отдыха, извлекал несколько
пуль: он начал уставать. Здесь было два стола: один – его, другой – помощника.
Между столами повесили простыню, чтобы оперируемые не могли друг друга видеть.
И как ни мыли эти столы губкой, они оставались красными; вода, которую санитар
выплескивал ведрами в нескольких шагах, на клумбу маргариток, казалась кровью:
ведь достаточно стакана крови, чтобы чистая вода заалела и цветы на лужайке
были как будто залиты кровью. Хотя под навес свободно проникал воздух, от этих
столов, тряпок, инструментов поднималось тошнотворное зловоние и приторный
запах хлороформа.
Делагерш был довольно жалостливый человек; он содрогался от
сострадания; вдруг он заметил, что в ворота въезжает ландо, и полюбопытствовал.
Наверно, нашли только эту частную коляску и набили ее ранеными. Их было восемь;
они лежали один на другом. Делагерш вскрикнул от удивления и ужаса: в последнем
раненом, которого вынесли, он узнал капитана Бодуэна.
– Мой бедный друг!.. Подождите! Я сейчас позову мать и
жену!
Они прибежали, предоставив служанкам свертывать бинты.
Санитары подхватили капитана и понесли в лазарет; они собирались положить его
на охапку соломы, но Делагерш заметил; что на одном тюфяке неподвижно лежит
землисто‑бледный солдат и что у него остекленели глаза.
– Послушайте! Да ведь этот умер!
– А‑а! Правда, – пробормотал санитар. – Надо
его убрать отсюда, он только мешает!
Санитары взяли труп и потащили на свалку, за ракитники. Там
уже лежало в ряд с десяток трупов, застывших с последним хрипом; у одних ноги
словно удлинились от боли; другие скрючились в ужасных позах. Некоторые как
будто подсмеивались, закатили глаза, оскалили зубы, обнажив десны; у многих
вытянулось лицо, и казалось, они еще плачут горькими слезами в безмерной
скорби. Один малорослый и худой юноша, которому снесло полголовы, судорожно
сжимал обеими руками фотографию жены, бледную дешевую фотографию, забрызганную
кровью. А у ног трупов валялась груда отрубленных рук и ног – все отрезанное,
все отсеченное на операционных столах, славно метла мясника выкинула в угол
отбросы, мясо и кости.
Увидев капитана Бодуэна, Жильберта затрепетала. Боже мой!
Как он бледен на этом матраце, совсем белый под корой грязи! И при мысли, что
еще несколько часов тому назад он держал ее в объятиях, надушенный, полный
жизни, Жильберта похолодела от ужаса. Она стала на колени.
– Друг мой! Какое несчастье! Но это ничего, правда?
Она бессознательно вынула платок и вытерла лицо капитана:
она не могла примириться с тем, что он весь в поту, черный от пыли и пороха. Ей
казалось, если она хоть немного приведет в порядок раненого, ему станет легче.
– Правда? Это ничего? Только нога!
Капитан словно очнулся от дремоты и с трудом открыл глаза.
Он узнал друзей и старался улыбнуться.
– Да, только нога… Я даже ничего не почувствовал,
думал, что споткнулся, и упал…
Но он говорил с трудом.
– Пить! Пить!
Старуха Делагерш, склонившаяся над капитаном с другой
стороны, заторопилась и побежала за графином и стаканом. В воду налили немного
коньяку. Капитан жадно выпил; оставшуюся воду пришлось разделить между
ранеными, лежавшими рядом; сии протягивали руки, страстно умоляли дать и им
попить. Одному зуаву ничего не досталось, и он заплакал.
Между тем Делагерш старался поговорить с врачом, чтобы
капитана осмотрели вне очереди. Бурош как раз вошел в сушильню; его халат был
весь в крови, широкое лицо в поту, от рыжей львиной гривы голова казалась
огненной; когда он проходил, раненые привставали, старались его остановить:
каждый жаждал, чтобы его сейчас же осмотрели, спасли, сказали, что с ним. «Ко
мне! Господин доктор! Ко мне!» Вслед за Бурошем неслись бессвязные мольбы, чьи‑то
руки ощупью старались схватить его за халат. Но врач, поглощенный своим делом,
тяжело дыша от усталости, работал, никого не слушая. Он говорил вслух сам с
собой, пересчитывал раненых пальцем, нумеровал, распределял: «Сначала этого,
потом того, потом вот этого; первый, второй, третий; челюсть, рука,
бедро», – а сопровождавший его помощник прислушивался, стараясь все
запомнить.
– Доктор! – сказал Делагерш. – Здесь капитан,
капитан Бодуэн…
Бурош его перебил:
– Как? Бодуэн?.. Эх, бедняга!
Он остановился перед раненым капитаном. С одного взгляда он,
наверно, определил, что случай тяжелый: даже не нагибаясь, чтобы осмотреть
ногу, он сразу сказал:
– Ладно! Пусть мне его принесут немедленно, как только
я закончу операцию, которую сейчас готовят.
Он вернулся под навес; Делагерш пошел за мим, опасаясь, что
врач забудет свое обещание.
На этот раз предстояло вылущивание плеча по методу Лифранка
– то, что хирурги называют «красивой операцией», нечто элегантное и быстрое, в
целом – не больше сорока секунд. Раненого уже усыпляли; помощник обеими руками
схватил его за плечо, придерживая четырьмя пальцами под мышкой, большим пальцем
сверху. Бурош, вооруженный большим длинным ножом, крикнул: «Усадите его!»,
обхватил дельтовидный мускул и, проколов руку, перерезал его; потом, при
обратном движении, отделил одним ударом сочленение, и вся рука, отсеченная в
три приема, упала на стол. Помощник скользнул большим пальцем вниз и зажал
плечевую артерию. «Положите его!» Накладывая повязку, Бурош невольно
усмехнулся: он кончил все в тридцать пять секунд. Оставалось только загнуть
кусок кожи на ране, словно эполет. Эта операция тем и красива, что приходится
преодолеть много опасностей: раненый может в три минуты истечь кровью через
плечевую артерию, не говоря уже о том, что каждый раз, когда усыпленного
хлороформом усаживают, ему грозит смерть.
Делагерш похолодел и хотел бежать. Но не успел: рука уже
лежала на столе. Искалеченный солдат, новобранец, крепкий крестьянин, пришел в
себя, заметил, как санитар уносит его руку за ракитник. Быстро взглянув на
плечо и увидя, что рука отрублена и течет кровь, раненый бешено закричал:
– А‑а! Черт вас дери! Что вы наделали?
Бурош в полном изнеможении ничего не ответил, потом
добродушно сказал:
– Я сделал как лучше, я не хотел, чтобы ты помер,
голубчик… Ведь я тебя спросил, ты мне ответил: «Да!»
– Я сказал: «Да!» Я сказал: «Да!» А почем я знал?
Его гнев утих; он заплакал горючими слезами.
– Что мне делать? Куда я теперь гожусь?
Его отнесли обратно на солому, старательно вымыли стол, и
вода, которую снова выплеснули на лужайку, забрызгала кровью клумбу белых
маргариток.
Делагерш удивлялся, что все еще слышны пушечные выстрелы.
Почему ж они не замолкают? Ведь скатерть Розы должна уже развеваться над
цитаделью. Казалось, прусские батареи стали стрелять еще сильней. Грохот
заглушал слова; от сотрясения самые спокойные люди вздрагивали с головы до ног
и все больше волновались. На хирургов и раненых эти толчки, от которых замирало
сердце, действовали не очень‑то хорошо. Весь лазарет отчаянно шатало; все
метались в лихорадке.
– Ведь дело кончено! Чего они палят? – воскликнул
Делагерш, испуганно прислушиваясь и каждую секунду думай, что это последний
выстрел.
Он направился к Бурошу, чтобы напомнить ему о капитане, и с
удивлением увидел, что врач плашмя лежит на охапке соломы, заголив обе руки по
самые плечи и опустив их в два ведра ледяной воды. Изнемогая душой и телом,
Бурош отдыхал здесь, измученный, сраженный печалью, безысходной скорбью: это
была одна из тех минут отчаяния, когда врач чувствует свое бессилие. А между
тем Бурош был крепышом, выносливым и стойким. Но его мучил вопрос: «К чему?» и
парализовало сознание, что он никогда не справится со всей работой. К чему?
Ведь смерть сильней!..
Между тем два санитара принесли капитана Бодуэна.
– Доктор! – позволил себе сказать Делагерш. –
Вот капитан.
Бурош открыл глаза, вынул руки из воды, стряхнул и вытер о
солому. Привстав на колени, он сказал:
– Ах, да! Тьфу! Следующий!.. Да, да, день еще не
кончен. Он встал, освеженный, потряс своей львиной гривой, выпрямился в силу
привычки и требовательной дисциплины.
Жильберта и старуха Делагерш прошли вслед за носилками и,
когда капитана положили на тюфяк, покрытый клеенкой, остановились в нескольких
шагах.
– Так! Над правой щиколоткой, – сказал Бурош и
намеренно принялся болтать, чтобы отвлечь раненого. – Ну, тут не страшно!
Обойдется… Посмотрим!
Его явно беспокоило оцепенение Бодуэна. Врач взглянул на
перевязку, сделанную наспех: простой жгут, наложенный поверх штанины и
затянутый ножнами от штыка. Сквозь зубы Бурош проворчал: «Какой прохвост это
сделал?» Вдруг он умолк. Он понял: конечно, во время перевозки в ландо, набитом
ранеными, повязка ослабела, соскользнула, больше не стягивала рану, и это
вызвало обильное кровотечение.
Вдруг Бурош яростно набросился на помогавшего санитара:
– Экий чурбан! Да разрежьте скорей!
Санитар разрезал штанину и кальсоны, башмак и носок.
Показалась нога и ступня, голая, мертвенно‑белая, забрызганная кровью. Над щиколоткой
виднелась страшная дыра, в которую осколком снаряда вогнало лоскут красного
сукна. Из раны кашей вытекало искромсанное мясо. Жильберта прислонилась к
столбу навеса. Ах! Это тело, такое белое тело, теперь окровавленное и
растерзанное! Ее охватил ужас, но она не могла оторвать от него глав.
– Тьфу! Ну и разделали же они вас! – заметил
Бурош. Он ощупывал ногу, чувствовал, что она холодная, что в ней больше не
бьется пульс. Он стал мрачен; у губ легла складка, как всегда при опасных
операциях.
– Тьфу! – повторил он. – Нехорошая, нехорошая
нога! Капитан, очнувшись, внимательно посмотрел на него и наконец с тревогой
спросил:
– Да? Вы находите, доктор?
Но у Буроша была своя тактика – никогда не спрашивать прямо
у раненых обычного разрешения, когда представлялась необходимость ампутации. Он
предпочитал, чтобы раненый соглашался на это сам.
– Скверная нога! – пробормотал он, словно
размышляя вслух. – Мы ее не спасем!
Бодуэн возбужденно сказал:
– Ну, тогда надо с этим покончить. Как вы думаете?
– Я думаю, капитан, что вы храбрец и позволите мне
сделать, что полагается.
Глаза Бодуэна померкли, заволоклись какой‑то бурой дымкой.
Он понял. Но, преодолевая душивший его невыносимый страх, он просто, смело
ответил:
– Пожалуйста, доктор!
Приготовления были несложные. Помощник уже держал
пропитанную хлороформом салфетку и сейчас же приложил к носу раненого. В минуту
недолгого возбуждения перед анестезией два санитара осторожно подвинули
капитана на тюфяка так, чтобы его ноги лежали свободно: один стал поддерживать
левую, помощник схватил правую и сильно стиснул обеими руками у ляжки, чтобы
зажать артерии.
Увидя, что Бурош подходит с ножом, Жильберта не выдержала.
– Нет! Нет! Это ужасно!
Она почувствовала себя дурно, оперлась о старуху Делагерш,
которой пришлось протянуть руку, чтобы поддержать ее.
– Так зачем же вы здесь остаетесь?
И все‑таки обе остались. Они отвернулись от операционного
стола, чтобы ничего больше не видеть, не двигались, только вздрагивали и,
несмотря на взаимную неприязнь, прижимались друг к другу.
Именно в это время пушки загремели пуще прежнего. Было три
часа. Делагерш разочарованно, с раздражением твердил, что не понимает, в чем
дело. Теперь уже не оставалось сомнения, что прусские батареи не только не
умолкают, но еще усиливают огонь. Почему? Что там происходит? Бомбардировка
была адская; земля дрожала, небо воспламенялось. Седан охватило бронзовое
кольцо: восемьсот орудий немецких армий стреляли одновременно, громили соседние
поля безостановочно; огонь, направленный в одну точку со всех окрестных высот,
бил в центр и мог сжечь, испепелить город в каких‑нибудь два часа. Хуже всего
было то, что снаряды стали снова попадать в дома. Все чаще раздавался треск.
Один снаряд разорвался на улице Вуайяр. Другой задел высокую трубу фабрики, и
перед навесом посыпался щебень.
Бурош поднял голову и проворчал:
– Что же они хотят, – прикончить наших раненых,
что ли? Ну и грохот! Невыносимо!
Между тем санитар вытянул ногу капитана; врач быстрым
круговым движением надрезал кожу под коленом, пятью сантиметрами ниже того места,
где он рассчитывал перепилить кости. И тем же тонким ножом, которого он не
менял, чтобы работа шла скорей, он отделил кожу и отогнул вокруг, словно корку
апельсина. Когда он собирался отсечь мускулы, подошел санитар и на ухо сказал
ему:
– Номер второй сейчас кончился.
От оглушительного шума Бурош не расслышал.
– Да говорите громче, черт возьми! От этих проклятых
пушек можно оглохнуть!
– Номер второй сейчас кончился.
– Кто это номер второй?
– Рука.
– А‑а! Ладно!.. Так принесите номер третий – челюсть!
И с необыкновенной ловкостью, не прерывая работы, хирург
одним взмахом перерезал мускулы до костей. Он обнажил большую и малую берцовые
кости, ввел между ними плотный тампон, чтобы они держались, потом сразу отсек
их пилой. И нога осталась в руках санитара, который ее держал.
– Крови вытекло мало благодаря тому, что помощник
сжимал ляжку. Быстро были перевязаны три артерии. Но врач качал головой; когда
помощник разжал пальцы, врач осмотрел рану и, уверенный, что раненый еще не
может его услышать, буркнул:
– Досадно! Маленькие артерии не дают крови.
Он закончил диагноз, молча махнув рукой: еще один пропащий
человек! И на его потном лице снова появилось выражение страшной усталости и
грусть, безнадежный вопрос: «К чему?» Ведь из десяти не спасешь и четырех. Он
отер лоб, принялся разглаживать кожу и накладывать швы.
Жильберта обернулась. Делагерш сказал ей, что все закончено
и она может смотреть. Все же она увидела отрезанную ногу капитана, которую
санитар уносил за ракитник. Свалочное место пополнялось; там уже валялось два
новых трупа; у одного был непомерно открыт рот, словно покойник еще кричал;
другой весь съежился в чудовищной агонии и казался тщедушным, уродливым
ребенком. Куча обрубков разрослась до соседней аллеи. Не зная, куда приличней
положить ногу капитана, санитар заколебался и наконец решил бросить ее в общую
кучу.
– Ну, готово! – сказал Бурош, приводя Бодуэна в
чувство. – Вы вне опасности!
Но капитан не испытывал радости, которая обычно появляется
после удачных операций. Он чуть приподнялся, упал опять и слабым голосом
пробормотал:
– Спасибо! Лучше уж совсем покончить!
Он почувствовал, что его жжет спиртовая перевязка. Когда
санитары подходили с носилками, чтоб унести его, вся фабрика затряслась от
страшного залпа: за навесом, в небольшом дворике, где стоял насос, разорвался
снаряд. Стекла разбились вдребезги, и лазарет наполнился густым дымом. В
сушильне раненые приподнялись на соломе; все закричали от ужаса, все хотели
бежать.
Делагерш вне себя бросился узнать, есть ли повреждения.
Неужели теперь разрушат, сожгут его дом? Что там происходит? Ведь император
хотел это прекратить, зачем же они опять начинают?
– Черт подери! Да пошевеливайтесь! – прикрикнул
Бурош на санитаров, застывших от ужаса. – Вымойте мне стол! Принесите
номер третий!
Они вымыли стол, еще раз вылили ведра красной воды на
лужайку. Клумба маргариток была уже сплошной кровавой кашей из зелени и
растерзанных цветов, плавающих в крови. А врач, которому принесли «номер
третий», принялся, чтобы немного отдохнуть, искать пулю, которая раздробила
нижнюю челюсть и, наверно, застряла под языком. Кровь лилась ручьями, пальцы
врача слиплись.
Капитана Бодуэна опять положили на тюфяк в сушильне.
Жильберта и старуха пришли вслед за носилками. Даже сам Делагерш, при всех
своих заботах, забежал сюда поболтать.
– Отдохните, капитан! Мы приготовим для вас комнату,
перенесем вас к себе.
Простертый в изнеможении, капитан очнулся; мгновенно он
понял все.
– Нет, я, видно, умру.
И он взглянул на всех расширенными от ужаса глазами.
– Что вы говорите, капитан? – пробормотала
Жильберта, силясь улыбнуться, но вся леденея. – Через месяц вы встанете.
Он покачал головой; он смотрел только на нее, и в его глазах
было безмерное сожаление о жизни, страх умереть таким молодым, не исчерпав всех
радостей бытия.
– Нет! Я умру, умру… А‑а, это ужасно!..
Вдруг он заметил, что его мундир выпачкан и разорван, руки в
грязи; казалось, для него было мучительно лежать в таком виде перед женщинами.
Ему стало стыдно, что он так забылся; при мысли, что это неприлично, он
окончательно набрался храбрости. Ему удалось весело прибавить:
– Но если я умру, я хочу отправиться на тот свет с
чистыми руками… Будьте так любезны, сударыня, намочите, пожалуйста, полотенце и
дайте мне!
Жильберта побежала, принесла полотенце и захотела сама
вымыть ему руки. С этой минуты капитан обнаружил большое мужество, стараясь
кончить жизнь, как полагается воспитанному человеку. Делагерш его ободрял,
помогал жене приводить его в приличный вид. И, видя, как супруги ухаживают за
умирающим, старуха Делагерш почувствовала, что ее гнев утих. Она решила
промолчать и на этот раз, хотя знала все и дала себе клятву рассказать обо всем
сыну. Зачем разрушать семью? Ведь вместе с этим человеком исчезнет и содеянный
грех.
Все кончилось почти сразу. Капитан Бодуэн ослабел, снова
впал в тяжелое забытье. На лбу и шее выступил холодный пот. На мгновение он
открыл глаза, стал ощупью искать воображаемое одеяло и тихо, упрямо натягивать
скрюченными пальцами до подбородка.
– Мне холодно! Очень холодно!
Он догорел, скончался без предсмертной икоты, и на его
спокойном исхудавшем лице застыло выражение бесконечной печали.
Делагерш позаботился, чтобы тело капитана не выбросили на
свалку, а положили в соседний сарай. Он уговаривал жену уйти. Но потрясенная,
плачущая Жильберта сказала, что теперь ей будет слишком страшно одной и лучше
остаться со свекровью в лазарете, где можно отвлечься в суматохе. Она побежала,
дала напиться воды африканскому стрелку, бредившему в лихорадке, и помогла
санитару перевязать руку двадцатилетнему солдату‑новобранцу, который пришел
пешком с поля битвы, – ему оторвало большой палец; это был милый и
забавный юноша, он подшучивал над своей раной беспечно, как парижский балагур.
В конце концов Жильберта тоже повеселела.
Во время агонии капитана канонада как будто еще усилилась;
второй снаряд разорвался в саду и разбил одно из вековых деревьев. Обезумевшие
люди кричали, что весь Седан горит: большой пожар возник в предместье Кассин.
Если бомбардировка не скоро утихнет, все будет кончено.
– Это немыслимо! Я опять пойду туда! – вне себя
объявил Делагерш.
– Куда это? – спросил Бурош.
– Да в префектуру, узнать, смеется, что ли, над нами
император: ведь он велел поднять белый флаг!
Буроша на несколько мгновений ошеломила мысль о белом флаге,
о поражении, капитуляции, как раз теперь, когда он чувствовал свое бессилие
спасти столько истерзанных людей, которых ему приносили. Он безнадежно и гневно
махнул рукой.
– Идите к черту! Что ни делай, – все равно нам
крышка!
На улице Делагершу стало еще трудней пробираться сквозь
растущую толпу. С каждой минутой на улицах скоплялось все больше бежавших
солдат. Делагерш расспрашивал встречных офицеров, но ни один из них не заметил
на цитадели белого флага. Наконец какой‑то полковник ответил, что видел
мельком, как белый флаг подняли и спустили. Наверно, этим все и объяснялось:
либо немцы его не видели, либо, заметив, что он появился и тут же исчез,
усилили огонь, понимая, что приближается агония. В толпе уже повторяли какую‑то
выдумку: при появлении белого флага один генерал в безумном гневе бросился
вперед, собственноручно сорвал его, переломил древко, растоптал полотнище. А
прусские батареи продолжали стрелять; снаряды сыпались дождем на крыши и улицы;
дома горели; на площади Тюренна женщине раздробило голову.
В швейцарской префектуры Делагерш не нашел Розы. Все двери
были открыты: началось бегство. Делагерш поднялся, натыкаясь только на
испуганных служащих, и никто даже не задал ему ни одного вопроса. На втором
этаже он остановился в нерешительности и вдруг встретил Розу.
– А‑а! Господин Делагерш! Дела идут все хуже… Вот! Если
хотите видеть императора, смотрите скорей!
И правда, слева дверь была закрыта неплотно, сквозь широкую
щель можно было видеть императора; он опять стал ходить, пошатываясь, от камина
до окна. Он еле волочил ноги, но не останавливался, хоть и страдал от
невыносимых болей.
Вошел адъютант, тот, что так плохо закрыл дверь; послышался
раздраженный, скорбный голос императора:
– Так почему же, сударь, они все еще стреляют? Ведь я
приказал поднять белый флаг!
Пушки не замолкали, залпы раздавались сильней, и это стало
для него пыткой. Каждый раз, как он подходил к окну, грохот отдавался в его
сердце. Еще кровь! Еще люди погибают по его вине! Каждую минуту падают новые
мертвецы – и напрасно! И этот жалостливый мечтатель с возмущением, с отчаянием
спрашивал своих приближенных:
– Так почему же они все еще стреляют? Ведь я приказал
поднять белый флаг!
Адъютант что‑то пробормотал в ответ, но Делагерш не
расслышал. К тому же император не остановился, его неудержимо влекло опять к
окну, где он изнемогал от беспрерывного гула канонады. Хотя на его вытянувшемся
мрачном лице еще не стерлись следы румян, он еще больше побледнел, в нем
чувствовалась смертельная мука.
Вдруг по площадке лестницы пробежал подвижной человечек в
запыленном мундире; Делагерш узнал генерала Лебрена. Генерал толкнул дверь и
вошел без доклада. И опять послышался тревожный вопрос императора:
– Так почему же они все еще стреляют? Ведь я приказал
поднять белый флаг!
Адъютант вышел, дверь закрылась, и Делагерш не мог расслышать
ответа генерала. Все исчезло.
– Ох! Дела идут все хуже! – повторила Роза. –
Я это понимаю, вижу по лицам этих людей… А скатерть‑то моя! Пропала она:
говорят, ее разорвали… Но больше всего мне жалко императора; его болезнь
опасней, чем у маршала; ему бы лучше лечь в постель, чем ходить по комнате, а
он мучается и все ходит и ходит.
Она была очень взволнована, ее красивое лицо, обрамленное
белокурыми волосами, выражало искреннюю жалость. Но за последние два дня
бонапартистские чувства Делагерша странно охладели, и он решил, что Роза –
дура. Тем не менее он немного посидел с ней в швейцарской, поджидая генерала
Лебрена. И когда генерал появился, Делагерш пошел за ним.
Генерал Лебрен объяснил императору, что для перемирия
необходимо вручить главнокомандующему немецкими армиями письмо за подписью
главнокомандующего французской армией. Тут же генерал вызвался составить это
письмо, отправиться на поиски генерала де Вимпфена и получить его подпись. Он
повез письмо, только опасался не найти де Вимпфена, не зная, в каком месте поля
битвы его искать. В Седане была такая давка, что Лебрену пришлось ехать шагом,
и Делагершу удалось дойти вслед за ним до Менильских ворот.
Выехав на дорогу, генерал Лебрен пустил коня вскачь; ему
посчастливилось встретить генерала де Вимпфена при въезде в Балан. За несколько
минут до этого де Вимпфен написал императору: «Ваше величество! Станьте во
главе ваших войск. Они будут считать честью пробить вам путь сквозь
неприятельские ряды!» При одном только слове «перемирие» Вимпфеном овладело бешенство.
Нет! Нет! Он ничего не подпишет! Надо сражаться. Было половина четвертого. И
вскоре французы предприняли героическую, отчаянную попытку последним натиском
прорваться сквозь баварские войска, еще раз пойти на Базейль. На улицах Седана,
в окрестных полях, чтобы обманом поднять дух войск, кричали: «Базен идет! Базен
идет!» С утра многие мечтали об этих подкреплениях; каждый раз, как немцы
выдвигали новую батарею, думали, что это стреляют пушки французской армии,
прибывшей из Метца. Было собрано около тысячи двухсот человек отставших солдат
из всех корпусов, все роды оружия смешались, и маленькая колонна доблестно
бросилась вперед по дороге, осыпаемой картечью. Сначала это было великолепное
зрелище; падавшие солдаты не останавливали натиска уцелевших; войска пробежали
около пятисот метров с неистовой отвагой. Однако скоро ряды поредели; даже
самые храбрые солдаты отступили. Что поделаешь против подавляющего численного
превосходства? В этой попытке обнаружилась только безумная смелость
командующего армией, который не хотел признать себя побежденным. В конце концов
генерал де Вимпфен остался один с генералом Лебреном на дороге между Баланом и
Базейлем, и им пришлось окончательно бросить ее. Оставалось только отступить к
стенам Седана.
Потеряв из виду генерала Лебрена, Делагерш тотчас же
поспешил обратно на фабрику, одержимый одним желанием – снова подняться в свою
обсерваторию, чтобы издали следить за событиями. Но, подходя к дому, он был
вынужден остановиться: в ворота въезжала повозка зеленщика; на дне ее,
устланном соломой, в полуобморочном состоянии лежал полковник де Винейль; его
сапог был в крови. На поле сражения он упорно старался собрать остатки своего
полка, пока не свалился с лошади.
Его немедленно понесли в комнату на втором этаже;
прибежавший Бурош нашел только трещину в щиколотке, вынул из раны куски
голенища и ограничился перевязкой. Бурош был завален работой, разъярен; он
сошел вниз, крича, что предпочел бы отрезать ногу самому себе, чем заниматься
своим делом в таких гнусных условиях, без приличного материала, без необходимых
помощников. И правда, уже не знали, куда девать раненых; решили укладывать их в
траву на лужайку. Они валялись там уже в два ряда; стонали, ждали перевязки под
открытым небом, под снарядами, которые все еще сыпались дождем. Раненых свозили
в лазарет с двенадцати часов дня; их набралось уже больше четырехсот; Бурош
потребовал еще хирургов, а ему прислали только молодого городского врача. Бурош
не мог справиться один со всей работой; он исследовал раны зондом, резал, пилил,
зашивал; он был вне себя, в отчаянии, что работы все больше и больше.
Жильберта, ошалев от ужаса и отвращения при виде всей этой крови, сидела теперь
у постели дяди – полковника де Винейля, а старуха Делагерш осталась внизу,
подавала пить раненым, метавшимся в лихорадке, и вытирала пот с лица умирающих.
Поднявшись на террасу, Делагерш попытался разобраться в
положении дел. Город пострадал меньше, чем думали; в предместье Кассин возник
единственный пожар, и от него поднимался густой черный дым. Палатинский форт
больше не стрелял, наверно, за неимением боеприпасов. Только у Парижских ворот
изредка постреливали орудия. Но Делагерш сразу обратил внимание на другое: на
башне снова подняли белый флаг; однако с поля битвы его, наверно, не заметили,
пальба продолжалась с такой же силой. Соседние крыши закрывали Балансную
дорогу; Делагерш не мог следить за передвижением войск, но в подзорную трубу он
разглядел немецкий генеральный штаб на том же самом месте, что и в двенадцать
часов дня. Начальник, крошечный оловянный солдатик, ростом с полмизинца, –
по мнению Делагерша, прусский король, – все еще стоял в темном мундире
впереди других офицеров; большей частью они лежали на траве, сверкая золотым
шитьем. Здесь были иностранные офицеры, адъютанты, генералы, гофмаршалы, принцы,
все с биноклями; они с утра наблюдали агонию французской армии, словно смотрели
спектакль. И чудовищная драма завершалась.
С лесистого холма Марфэ король Вильгельм наблюдал за
соединением своих войск. Все было кончено: третья армия под начальством его
сына, кронпринца прусского, пройдя через Сен‑Манж и Фленье, заняла плоскогорье
Илли; четвертая, под начальством кронпринца саксонского, прибыла через Деньи и
Живонну, обойдя Гаренский лес. XI и V корпуса, таким образом, соединились с XII
и с прусской гвардией. Последнее усилие французов прорвать кольцо в ту минуту,
когда оно смыкалось, бесполезная, доблестная атака дивизии генерала Маргерита
вызвала у прусского короля восхищение, и он воскликнул: но! Храбрецы!» Теперь
математически рассчитанное, неумолимое окружение заканчивалось, челюсти тисков
сомкнулись; король мог окинуть взглядом огромную стену людей и пушек, которая
зажала побежденную армию. На севере охват все сужался, оттесняя беглецов к
Седану под ураганным огнем немецких батарей, выстроившихся сплошной цепью на
горизонте. На юге завоеванный Базейль, пустынный и мрачный, догорал, все еще
извергая клубы дыма и крупные искры; овладев Баланом, баварцы наводили пушки на
Седан, в трехстах метрах от городских ворот. А батареи, установленные на левом
берегу в Пон‑Монжи, Нуайе, Френуа, Ваделинкуре, безостановочно стреляли уже
двенадцать часов, гремели еще сильней, дополняя непроходимую огненную цепь
внизу, у самых ног короля.
Но король Вильгельм устал, опустил бинокль и продолжал
смотреть невооруженным глазом. Солнце косо спускалось за леса, заходило в
безоблачно‑чистом небе. Вся ширь золотилась, омытая таким прозрачным светом,
что малейшие подробности вырисовывались необыкновенно четко. Король различал
седанские дома с маленькими черными переплетами окон, валы, крепость – все
сложное построение защитных укреплений, грани которых вырисовывались резкими
очертаниями. А вокруг, в полях, рассыпались деревни, яркие, блестящие, похожие
на игрушечные фермы: налево, на краю голой равнины, – Доншери, направо, среди
лугов, – Дузи и Кариньян. Казалось, можно пересчитать деревья Арденского
леса; океан его зелени простирался до самой границы. Озаренный скользящим
светом, Маас с его медлительными извивами казался рекой из чистого золота. И с
этой высоты, под прощальными лучами солнца, жестокая, кровавая битва
становилась нежной живописью: убитые всадники, кони с распоротым брюхом усеяли
плоскогорье Флуэн веселыми пятнами; направо, у Живонны, последняя давка при
отступлении радовала глаз вихрем черных, бегущих, теснящихся точек, а слева, на
полуострове Иж, чуть виднелись баварские пушки величиной со спичку, и вся
батарея была похожа на хорошо сделанную заводную игрушку, которая может
стрелять с точностью часового механизма. Это была победа, неожиданная,
молниеносная победа, и король не чувствовал угрызений совести при виде
крошечных трупов тысяч людей, которые занимали меньше места, чем пыль на
дороге, при виде огромной долины, где базейльские пожары, иллийские избиения,
седанские муки не мешали природе быть прекрасной на закате прекрасного дня.
Вдруг Делагерш заметил, как по склону Марфэ, верхом на
вороном коне, поднимается французский генерал в голубом мундире; перед ним ехал
гусар с белым флагом. Это генерал Рейль, уполномоченный французского
императора, вез прусскому королю письмо:
«Августейший брат мой! Так как мне не удалось умереть среди моих
войск, мне остается только вручить Вашему Величеству мою шпагу.
Остаюсь Вашего Величества преданным братом
Наполеон».
Не являясь больше властелином и спеша прекратить бойню,
император сдавался, надеясь смягчить победителя. Делагерш увидел, как генерал
де Рейль остановился в десяти шагах от короля, сошел с лошади, приблизился и
передал письмо; при нем не было оружия, он держал в руке только хлыст. Солнце
опускалось в розовом сиянии; король сел на стул, оперся о спинку другого стула,
за которым стоял секретарь, и ответил, что принимает шпагу, в ожидании офицера,
уполномоченного обсудить условия капитуляции.
|


