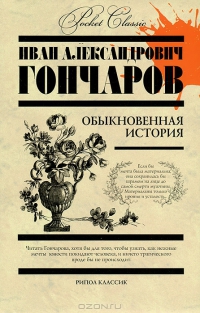
 Увеличить Увеличить |
II
Александр,
возвратись домой от дяди, сел в кресло и задумался. Он припомнил весь разговор
с дядей и тёткой и потребовал строгого отчёта от самого себя.
Как, в
свои лета, позволив себе ненавидеть и презирать людей, рассмотрев и обсудив их
ничтожность, мелочность, слабости, перебрав всех и каждого из своих знакомых,
он забыл разобрать себя! Какая слепота! И дядя дал ему урок, как школьнику,
разобрал его по ниточке, да ещё при женщине; что бы ему самому оглянуться на
себя! Как дядя должен выиграть в этот вечер в глазах жены! Это бы, пожалуй,
ничего, оно так и должно быть; но ведь он выиграл на его счёт. Дядя имеет над
ним неоспоримый верх, всюду и во всём.
«Где
же, – думал он, – после этого преимущество молодости, свежести, пылкости
ума и чувств, когда человек, с некоторою только опытностью, но с чёрствым
сердцем, без энергии, уничтожает его на каждом шагу, так, мимоходом, небрежно?
Когда же спор будет равен и когда наконец перевес будет на его стороне? А на
его стороне, кажется, и талант, и избыток душевных сил… а дядя является
исполином в сравнении с ним. С какою уверенностью он спорит, как легко устраняет
всякое противоречие и достигает цели, шутя, с зевотой, насмехаясь над чувством,
над сердечными излияниями дружбы и любви, словом, над всем, в чём пожилые люди
привыкли завидовать молодым».
Перебирая
всё это в уме, Александр покраснел от стыда. Он дал себе слово строго смотреть
за собой и при первом случае уничтожить дядю: доказать ему, что никакая
опытность не заменит того, что вложено свыше; что как он, Пётр Иваныч,
там себе ни проповедуй, а с этой минуты не сбудется ни одно из его холодных,
методических предсказаний. Александр сам найдёт свой путь и пойдёт по нём не
робкими, а твёрдыми и ровными шагами. Он теперь не то, что был три года назад.
Он проник взглядом в тайники сердца, рассмотрел игру страстей, добыл себе тайну
жизни, конечно не без мучений, но зато закалил себя против них навсегда.
Будущее ему ясно, он восстал, окрылился, – он не ребёнок, а муж, –
смело вперёд! Дядя увидит и в свою очередь разыграет впоследствии перед ним,
опытным мастером, роль жалкого ученика; он узнает, к удивлению своему, что есть
иная жизнь, иные отличия, иное счастье, кроме жалкой карьеры, которую он себе
избрал и которую навязывает и ему, может быть, из зависти. Ещё, ещё одно
благородное усилие – и борьба кончена!
Александр
ожил. Он опять стал творить особый мир, несколько помудрее первого. Тётка
поддерживала в нём это расположение, но тайком, когда Пётр Иваныч спал или
уезжал на завод и в английский клуб.
Она
расспрашивала Александра о занятиях. А уж как это нравилось ему! Он рассказывал
ей план своих сочинений и иногда, в виде совета, требовал одобрения.
Она
часто спорила с ним, но ещё чаще соглашалась.
Александр
привязался к труду, как привязываются к последней надежде. «За этим, – говорил
он тётке, – ведь уж нет ничего: там голая степь, без воды, без зелени,
мрак, пустыня, – что тогда будет жизнь? хоть в гроб ложись!» И он работал
неутомимо.
Иногда
угасшая любовь придёт на память, он взволнуется – и за перо: и напишет трогательную
элегию. В другой раз жёлчь хлынет к сердцу и поднимет со дна недавно бушевавшую
там ненависть и презрение к людям, – смотришь – и родится несколько
энергических стихов. В то же время он обдумывал и писал повесть. Он потратил на
неё много размышления, чувства, материального труда и около полугода времени.
Вот наконец повесть готова, пересмотрена и переписана набело. Тётка была в
восхищении.
В этой
повести действие происходило уже не в Америке, а где-то в тамбовской деревне.
Действующие лица были обыкновенные люди: клеветники, лжецы и всякого рода
изверги – во фраках, изменницы в корсетах и в шляпках. Всё было прилично, на
своих местах.
– Я
думаю, ma tante, это можно показать дядюшке?
– Да,
да, конечно, – отвечала она, – а впрочем… не лучше ли отдать
напечатать так, без него? Он всегда против этого: скажет что-нибудь… Вы знаете,
это кажется ему ребячеством.
– Нет,
лучше показать! – отвечал Александр. – Я после вашего суда и
собственного сознания не боюсь никого, а между тем пусть он увидит…
Показали.
Пётр Иваныч, увидя тетрадь, немного нахмурился и покачал головой.
– Что
это, вы вдвоём сочинили? – спросил он, – что-то много. Да как мелко
писано: охота же писать!
– Ты
погоди качать головой, – отвечала жена, – а прежде выслушай. Прочтите
нам, Александр. Только ты выслушай внимательно, не дремли и скажи потом свой
приговор. Недостатки везде можно найти, если захочешь искать их. А ты будь
снисходителен.
– Нет,
зачем? будьте только справедливы, – прибавил Александр.
– Нечего
делать; я выслушаю, – сказал Пётр Иваныч со вздохом, – только с
условием, во-первых, не после обеда вскоре читать, а то я за себя не ручаюсь,
что не засну. Этого, Александр, на свой счёт не принимай; что бы ни читали
после обеда, а меня всегда клонит сон; а во-вторых, если это что-нибудь
дельное, то я скажу своё мнение, а нет – я буду только молчать, а вы там как
себе хотите.
Стали
читать. Пётр Иваныч ни разу не вздремнул, слушал, не сводя глаз с Александра, даже
редко мигал, а два раза так одобрительно кивнул головой.
– Видишь! –
сказала жена вполголоса. – Я тебе говорила.
Он и ей
кивнул.
Читали
два вечера сряду. В первый вечер, после чтения, Пётр Иваныч рассказал, к удивлению
жены, всё, что будет дальше.
– Ты
почему знаешь? – спросила она.
– Мудрёно!
Идея уж не новая, – тысячу раз писали об этом. Дальше и читать бы не
нужно, да посмотрим, как она развилась у него.
Когда на
другой вечер Александр дочитывал последнюю страницу, Пётр Иваныч позвонил.
Вошёл человек.
– Приготовь
одеться, – сказал он. – Извини, Александр, что перервал:
тороплюсь, – опоздаю в клуб к висту.
Александр
кончил. Пётр Иваныч проворно пошёл вон.
– Ну,
до свиданья! – сказал он жене и Александру. – Я уж не заеду сюда.
– Постой!
постой! – закричала жена, – что ж ты ничего не скажешь о повести?
– По
уговору не следует! – отвечал он и хотел идти.
– Это
упрямство! – сказала она. – О, он упрям – я его знаю! Вы не смотрите
на это, Александр.
«Это
недоброжелательство! – подумал Александр. – Он меня хочет втоптать в
грязь, стащить в свою сферу. Всё-таки он умный чиновник, заводчик – и больше
ничего, а я поэт…»
– Это
из рук вон, Пётр Иваныч! – начала жена чуть не со слезами. – Ты хоть
что-нибудь скажи. Я видала, что ты в знак одобрения качал головой, стало быть,
тебе понравилось. Только по упрямству не хочешь сознаться. Как сознаться, что
нам нравится повесть! мы слишком умны для этого. Признайся, что хорошо.
– Я
качал головой потому, что и из этой повести видно, что Александр умён, но он
неумно сделал, что написал её.
– Однако
ж, дядюшка, суд такого рода…
– Послушай:
ведь ты мне не веришь, нечего и спорить; изберём лучше посредника. Я даже вот
что сделаю, чтоб кончить это между нами однажды навсегда: я назовусь автором
этой повести и отошлю её к моему приятелю, сотруднику журнала: посмотрим, что
он скажет. Ты его знаешь и, вероятно, положишься на его суд. Он человек
опытный.
– Хорошо,
посмотрим.
Пётр
Иваныч сел к столу и наскоро написал несколько строк, потом передал письмо Александру.
«Я, на
старости лет, пустился в авторство, – писал он, – что делать: хочется
прославиться, взять и тут, – с ума сошёл! Вот я и произвёл прилагаемую при
сём повесть. Просмотрите её, и если годится, то напечатайте в вашем журнале,
разумеется, за деньги: вы знаете, я даром работать не люблю. Вы удивитесь и не
поверите, но я позволяю вам даже подписать мою фамилию, стало быть, не лгу».
Уверенный
в благоприятном отзыве о повести, Александр покойно ожидал ответа. Он даже
радовался, что дядя упомянул в записке о деньгах.
«Очень,
очень умно, – думал он, – Маменька жалуется, что хлеб дешёв: пожалуй,
не скоро пришлёт денег; а тут оно и кстати получить тысячи полторы».
Прошло,
однако же, недели три, ответа всё не было. Вот, наконец, однажды утром к Петру
Иванычу принесли большой пакет и письмо.
– А!
назад прислали! – сказал он, лукаво взглянув на жену.
Он не
распечатал записки и не показал жене, как она ни просила. В тот же день
вечером, перед тем, как ехать в клуб, он сам отправился к племяннику.
Дверь
была не заперта. Он вошёл. Евсей храпел, растянувшись в передней диагонально на
полу. Светильня страшно нагорела и свесилась с подсвечника. Он заглянул в
другую комнату: темно.
– О,
провинция! – проворчал Пётр Иваныч.
Он
растолкал Евсея, показал ему на дверь, на свечку и погрозил тростью. В третьей
комнате за столом сидел Александр, положив руки на стол, а на руки голову, и
тоже спал. Перед ним лежала бумага. Пётр Иваныч взглянул – стихи.
Он взял
бумагу и прочитал следующее:
Весны
пора прекрасная минула,
Исчез
навек волшебный миг любви,
Она
в груди могильным сном уснула
И
пламенем не пробежит в крови!
На
алтаре её осиротелом
Давно
другой кумир воздвигнул я,
Молюсь
ему… но…[25]
– И
сам уснул! Молись, милый, не ленись! – сказал вслух Пётр Иваныч. –
Свои же стихи, да как уходили тебя! Зачем другого приговора? сам изрёк себе.
– А! –
сказал Александр, потягиваясь, – вы всё ещё против моих сочинений!
Скажите, дядюшка, откровенно, что заставляет вас так настойчиво преследовать
талант, когда нельзя не признать…
– Да
зависть, Александр. Посуди сам: ты приобретёшь славу, почёт, может быть, ещё бессмертие,
а я останусь тёмным человеком и принуждён буду довольствоваться названием полезного
труженика. А ведь я тоже Адуев! воля твоя, обидно! Что я такое? прожил век свой
тихо, безвестно, исполнил только своё дело и был ещё горд и счастлив этим. Не
жалкий ли удел? Когда умру, то есть ничего не буду чувствовать и знать, струны
вещие баянов[26] не
станут говорить обо мне, отдалённые века, потомство, мир не наполнятся
моим именем, не узнают, что жил на свете статский советник Пётр Иваныч Адуев, и
я не буду утешаться этим в гробе, если я и гроб уцелеем как-нибудь до
потомства. Какая разница ты: когда, расширяся шумящими крылами, будешь
летать под облаками, мне придётся утешаться только тем, что в массе
человеческих трудов есть капля и моего мёда[27], как говорит твой любимый
автор.
– Оставьте
его, ради бога, в стороне; что он за любимый автор! Издевается только над
ближним.
– А!
издевается! Не с тех ли пор ты разлюбил Крылова, как увидел у него свой
портрет? A propos! знаешь ли, что твоя будущая слава, твоё бессмертие у меня в
кармане? но я желал бы лучше, чтоб там были твои деньги: это вернее.
– Какая
слава?
– А
ответ на мою записку.
– Ах!
дайте, ради бога, скорее. Что он пишет?
– Я
не читал; прочитай сам, да вслух.
– И
вы могли утерпеть?
– Да
мне-то что?
– Как
что! Ведь я ваш родной племянник: как не полюбопытствовать? Какая холодность!
это эгоизм, дядюшка!
– Может
быть: я не запираюсь. Впрочем, я знаю, что тут написано. На, читай!
Александр
начал читать громко, а Пётр Иваныч постукивал палкой по сапогам. В записке было
вот что:
«Что
это за мистификация, мой любезнейший Пётр Иваныч? Вы пишете повести! Да кто ж
вам поверит? И вы думали обморочить меня, старого воробья! А если б, чего боже
сохрани, это была правда, если б вы оторвали на время ваше перо от дорогих, в
буквальном смысле, строк, из которых каждая, конечно, не один червонец стоит, и
перестав выводить почтенные итоги, произвели бы лежащую передо мною повесть, то
я и тогда сказал бы вам, что хрупкие произведения вашего завода гораздо прочнее
этого творения…»
У Александра
голос вдруг упал.
«Но я
отвергаю такое обидное подозрение на ваш счёт», – продолжал он робко и
тихо.
– Не
слышу, Александр, погромче! – сказал Пётр Иваныч.
Александр
продолжал тихим голосом:
«Принимая
участие в авторе повести, вы, вероятно, хотите знать моё мнение. Вот оно. Автор
должен быть молодой человек. Он не глуп, но что-то не путём сердит на весь мир.
В каком озлобленном, ожесточённом духе пишет он! Верно, разочарованный. О боже!
когда переведётся этот народ? Как жаль, что от фальшивого взгляда на жизнь
гибнет у нас много дарований в пустых, бесплодных мечтах, в напрасных
стремлениях к тому, к чему они не призваны».
Александр
остановился и перевёл дух. Пётр Иваныч закурил сигару и пустил кольцо дыму.
Лицо его, по обыкновению, выражало совершенное спокойствие. Александр продолжал
читать глухим, едва слышным голосом:
«Самолюбие,
мечтательность, преждевременное развитие сердечных склонностей и неподвижность
ума, с неизбежным последствием – ленью, – вот причины этого зла. Наука,
труд, практическое дело – вот что может отрезвить нашу праздную и больную
молодёжь».
– Всё
дело можно бы в трёх строках объяснить, – сказал Пётр Иваныч, поглядев на
часы, – а он в приятельском письме написал целую диссертацию! ну, не
педант ли? Читать ли дальше, Александр? брось: скучно. Мне бы надо тебе кое-что
сказать…
– Нет,
дядюшка, позвольте, уж я выпью чашу до дна: дочитаю.
– Ну,
читай на здоровье.
«Это
печальное направление душевных способностей, – читал Александр, –
обнаруживается в каждой строке присланной вами повести. Скажите ж вашему
protege[28],
что писатель тогда только, во-первых, напишет дельно, когда не будет находиться
под влиянием личного увлечения и пристрастия. Он должен обозревать покойным и
светлым взглядом жизнь и людей вообще, – иначе выразит только своё я,
до которого никому нет дела. Этот недостаток сильно преобладает в повести.
Второе и главное условие – этого, пожалуй, автору не говорите из сожаления к
молодости и авторскому самолюбию, самому беспокойному из всех самолюбий, –
нужен талант, а его тут и следа нет. Язык, впрочем, везде правилен и чист;
автор даже обладает слогом…» – насилу дочитал Александр.
– Вот
давно бы так! – сказал Пётр Иваныч, – а то бог знает что наговорил! О
прочем мы с тобой и без него рассудим.
У
Александра опустились руки. Он молча, как человек, оглушённый неожиданным
ударом, глядел мутными глазами прямо в стену. Пётр Иваныч взял у него письмо и
прочитал в P.S. следующее: «Если вам непременно хочется поместить эту повесть в
наш журнал – пожалуй, для вас, в летние месяцы, когда мало читают, я помещу, но
о вознаграждении и думать нельзя».
– Ну,
что, Александр, как ты себя чувствуешь? – спросил Пётр Иваныч.
– Покойнее,
нежели можно было ожидать, – отвечал с усилием Александр, – чувствую,
как человек, обманутый во всём.
– Нет,
как человек, который обманывал сам себя да хотел обмануть и других…
Александр
не слыхал этого возражения.
– Ужели
и это мечта?.. и это изменило?.. – шептал он. – Горькая утрата! Что
ж, не привыкать-стать обманываться! Но зачем же, я не понимаю, вложены были в
меня все эти неодолимые побуждения к творчеству?..
– Вот
то-то! в тебя вложили побуждения, а самоё творчество, видно, и забыли
вложить, – сказал Пётр Иваныч, – я говорил!
Александр
отвечал вздохом и задумался. Потом вдруг с живостью бросился отворять все ящики,
достал несколько тетрадей, листков, клочков и начал с ожесточением бросать в
камин.
– Вот
это не забудь! – сказал Пётр Иваныч, подвигая к нему листок с начатыми
стихами, лежавший на столе.
– И
это туда же! – говорил Александр с отчаянием, бросая стихи в камин.
– Нет
ли ещё чего? Поищи-ка хорошенько, – спросил Пётр Иваныч, осматриваясь
кругом, – уж за один бы раз делать умное дело. Вон, что там это на шкафе
за связка?
– Туда
же! – говорил Александр, доставая её, – это статьи о сельском
хозяйстве.
– Не
жги, не жги этого! Отдай мне! – сказал Пётр Иваныч, протягивая
руку, – это не пустяки.
Но
Александр не слушал.
– Нет! –
сказал он со злостью, – если погибло для меня благородное творчество в
сфере изящного, так я не хочу и труженичества: в этом судьба меня не переломит!
И связка
полетела в камин.
– Напрасно! –
заметил Пётр Иваныч и между тем сам палкой шарил в корзине под столом, нет ли
ещё чего-нибудь бросить в огонь.
– А
что же мы с повестью сделаем, Александр? Она у меня.
– Не
нужно ли вам оклеить перегородки?
– Нет,
теперь нет. Не послать ли за ней? Евсей! Опять заснул: смотри, там мою шинель у
тебя под носом украдут! Сходи скорее ко мне, спроси там у Василья толстую
тетрадь, что лежит в кабинете на бюро, и принеси сюда.
Александр
сидел, опершись на руку, и смотрел в камин. Принесли тетрадь. Александр поглядел
на плод полугодовых трудов и задумался. Пётр Иваныч заметил это.
– Ну,
кончай, Александр, – сказал он, – да поговорим о другом.
– И
это туда же! – крикнул Александр, швырнув тетрадь в печь.
Оба стали
смотреть, как она загорится, Пётр Иваныч, по-видимому, с удовольствием,
Александр с грустью, почти со слезами. Вот верхний лист зашевелился и поднялся,
как будто невидимая рука перевёртывала его; края его загнулись, он почернел,
потом скоробился и вдруг вспыхнул; за ним быстро вспыхнул другой, третий, а там
вдруг несколько поднялись и загорелись кучей, но следующая под ними страница
ещё белелась и через две секунды тоже начала чернеть по краям.
Александр,
однако ж, успел прочесть на ней: глава III-я. Он вспомнил, что было в этой главе,
и ему стало жаль её. Он встал с кресел и схватил щипцы, чтобы спасти остатки
своего творения. «Может быть, ещё…» – шептала ему надежда.
– Постой,
вот я лучше тростью, – сказал Пётр Иваныч, – а то обожжёшься щипцами.
Он подвинул
тетрадь в глубину камина, прямо на уголья. Александр остановился в нерешимости.
Тетрадь была толста и не вдруг поддалась действию огня. Из-под неё сначала
повалил густой дым; пламя изредка вырвется снизу, лизнёт её по боку, оставит
чёрное пятно и опять спрячется. Ещё можно было спасти. Александр уже протянул
руку, но в ту же секунду пламя озарило и кресла, и лицо Петра Иваныча, и стол;
вся тетрадь вспыхнула и через минуту потухла, оставив по себе кучу чёрного
пепла, по которому местами пробегали огненные змейки. Александр бросил щипцы.
– Всё
кончено! – сказал он.
– Кончено! –
повторил Пётр Иваныч.
– Ух! –
промолвил Александр, – я свободен!
– Уж
это в другой раз я помогаю тебе очищать квартиру, – сказал Пётр
Иваныч, – надеюсь, что на этот раз…
– Невозвратно,
дядюшка.
– Аминь! –
примолвил дядя, положив ему руки на плечи. – Ну, Александр, советую тебе
не медлить: сейчас же напиши к Ивану Иванычу, чтобы прислал тебе работу в
отделение сельского хозяйства. Ты по горячим следам, после всех глупостей,
теперь напишешь преумную вещь. А он всё заговаривает: «Что ж, говорит, ваш
племянник…»
Александр
с грустью покачал головой.
– Не
могу, – сказал он, – нет, не могу: всё кончено.
– Что
ж ты станешь теперь делать?
– Что? –
спросил он и задумался, – теперь пока ничего.
– Это
только в провинции как-то умеют ничего не делать; а здесь… Зачем же ты приезжал
сюда? Это непонятно!.. Ну, пока довольно об этом. У меня до тебя есть просьба.
Александр
медленно приподнял голову и взглянул на дядю вопросительно.
– Ведь
ты знаешь, – начал Пётр Иваныч, подвигая к Александру свои кресла, –
моего компаниона Суркова?
Александр
кивнул головой.
– Да,
ты иногда обедывал у меня с ним, только успел ли ты разглядеть хорошенько, что
это за птица? Он добрый малый, но препустой. Господствующая его слабость –
женщины. Он же, к несчастию, как ты видишь, недурён собой, то есть румян,
гладок, высок, ну, всегда завит, раздушен, одет по картинке: вот и воображает,
что все женщины от него без ума – так, фат! Да чёрт с ним совсем, я бы не
заметил этого; но вот беда: чуть заведётся страстишка, он и пошёл мотать. Тут у
него пойдут и сюрпризы, и подарки, и угождения; сам пустится в щегольство,
начнёт менять экипажи, лошадей… просто разоренье! И за моей женой волочился.
Бывало, уж я и не забочусь посылать человека за билетом в театр: Сурков
непременно привезёт. Лошадей ли надо променять, достать ли что-нибудь редкое,
толпу ли растолкать, съездить ли осмотреть дачу, куда ни пошлёшь – золото! Уж
как был полезен: этакого за деньги не наймёшь. Жаль! Я нарочно не мешал ему, да
жене очень надоел: я и прогнал. Вот когда он этак пустится мотать, ему уж
недостаёт процентов, он начинает просить денег у меня – откажешь, заговаривает
о капитале. «Что, говорит, мне ваш завод? никогда нет свободных денег в руках!»
Добро бы взял какую-нибудь… так нет: всё ищет связей в свете: «Мне, говорит,
надобно благородную интригу: я без любви жить не могу!» – не осёл
ли? Малому чуть не сорок лет, и не может жить без любви!
Александр
вспомнил о себе и печально улыбнулся.
– Он
всё врёт, – продолжал Пётр Иваныч. – Я после рассмотрел, о чём он
хлопочет. Ему только бы похвастаться, – чтоб о нём говорили, что он в
связи с такой-то, что видят в ложе у такой-то, или что он на даче сидел вдвоём
на балконе поздно вечером, катался, что ли, там с ней где-нибудь в уединённом
месте, в коляске или верхом. А между тем выходит, что эти так называемые благородные
интриги – чтоб чёрт их взял! – гораздо дороже обходятся, чем неблагородные.
Вот из чего бьётся, дурачина!
– К
чему же это всё ведёт, дядюшка? – спросил Александр, – я не вижу, что
я могу тут сделать.
– А
вот увидишь. Недавно воротилась сюда из-за границы молодая вдова, Юлия Павловна
Тафаева. Она очень недурна собой. С мужем я и Сурков были приятели. Тафаев умер
в чужих краях. Ну, догадываешься?
– Догадываюсь:
Сурков влюбился во вдову.
– Так:
совсем одурел! а ещё?
– Ещё…
не знаю…
– Экой
какой! Ну, слушай: Сурков мне раза два проговорился, что ему скоро понадобятся
деньги. Я сейчас догадался, что это значит, только с какой стороны ветер дует –
не мог угадать. Я допытываться, зачем деньги? Он мялся, мялся, наконец сказал,
что хочет отделать себе квартиру на Литейной. Я припоминать, что бы такое было
на Литейной, – и вспомнил, что Тафаева живёт там же и прямёхонько против
того места, которое он выбрал. Уж и задаток дал. Беда грозит неминучая, если…
не поможешь ты. Теперь догадался?
Александр
поднял нос немного кверху, провёл взглядом по стене, по потолку, потом мигнул
раза два и стал глядеть на дядю, но молчал.
Пётр
Иваныч смотрел на него с улыбкой. Он страх любил заметить в ком-нибудь промах
со стороны ума, догадливости и дать почувствовать это.
– Что
это, Александр, с тобой? А ещё повести пишешь! – сказал он.
– Ах,
догадался, дядюшка!
– Ну,
слава богу!
– Сурков
просит денег; у вас их нет, вы хотите, чтоб я… – и не договорил.
Пётр
Иваныч засмеялся. Александр не кончил фразы и смотрел на дядю в недоумении.
– Нет,
не то! – сказал Пётр Иваныч. – Разве у меня когда-нибудь не бывает
денег? Попробуй обратиться когда хочешь, увидишь! А вот что: Тафаева через него
напомнила мне о знакомстве с её мужем. Я заехал. Она просила посещать её; я
обещал и сказал, что привезу тебя: ну, теперь, надеюсь, понял?
– Меня? –
повторил Александр, глядя во все глаза на дядю. – Да, конечно… теперь понял… –
торопливо прибавил он, но на последнем слове запнулся.
– А
что ты понял? – спросил Пётр Иваныч.
– Хоть
убейте, ничего, дядюшка, не понимаю! Позвольте… может быть, у ней приятный дом…
вы хотите, чтоб я рассеялся… так как мне скучно…
– Вот,
прекрасно! стану я возить тебя для этого по домам! После этого недостаёт
только, чтоб я тебе закрывал на ночь рот платком от мух! Нет, всё не то. А вот
в чём дело: влюби-ка в себя Тафаеву.
Александр
вдруг поднял брови и посмотрел на дядю.
– Вы
шутите, дядюшка? это нелепо! – сказал он.
– Там,
где точно есть нелепости, ты их делаешь очень важно, а где дело просто и естественно
– это у тебя нелепости. Что ж тут нелепого? Разбери, как нелепа сама любовь:
игра крови, самолюбие… Да что толковать с тобой: ведь ты всё ещё веришь в
неизбежное назначение кого любить, в симпатию душ!
– Извините:
теперь ни во что не верю. Но разве можно влюбить и влюбиться по произволу?
– Можно,
но не для тебя. Не бойся: я такого мудрёного поручения тебе не дам. Ты вот
только что сделай. Ухаживай за Тафаевой, будь внимателен, не давай Суркову
оставаться с ней наедине… ну, просто взбеси его. Мешай ему: он слово, ты два,
он мнение, ты опровержение. Сбивай его беспрестанно с толку, уничтожай на
каждом шагу…
– Зачем?
– Всё
ещё не понимаешь! А затем, мой милый, что он сначала будет с ума сходить от ревности
и досады, потом охладеет. Это у него скоро следует одно за другим. Он самолюбив
до глупости. Квартира тогда не понадобится, капитал останется цел, заводские
дела пойдут своим чередом… ну, понимаешь? Уж это в пятый раз я с ним играю
шутку: прежде, бывало, когда был холостой и помоложе, сам, а не то кого-нибудь
из приятелей подошлю.
– Но
я с нею незнаком, – сказал Александр.
– А
для этого-то я и повезу тебя к ней в среду. По средам у ней собираются кое-кто
из старых знакомых.
– А
если она отвечает любви Суркова, тогда, согласитесь, что мои угождения и
внимательность взбесят не одного его.
– Э,
полно! Порядочная женщина, разглядев дурака, перестанет им заниматься, особенно
при свидетелях: самолюбие не позволит. Тут же около будет другой, поумнее и
покрасивее: она посовестится, скорей бросит. Вот для этого я и выбрал тебя.
Александр
поклонился.
– Сурков
не опасен, – продолжал дядя, – но Тафаева принимает очень немногих,
так что он может, пожалуй, в её маленьком кругу прослыть и львом и умником. На
женщин много действует внешность. Он же мастер угодить, ну, его и терпят. Она,
может быть, кокетничает с ним, а он и того… И умные женщины любят, когда для
них делают глупости, особенно дорогие. Только они любят большею частью при этом
не того, кто их делает, а другого… Многие этого не хотят понять, в том числе и
Сурков, – вот ты и вразуми его.
– Но
Сурков, вероятно, там и не по средам бывает: в среду я ему помешаю, а в другие
дни как?
– Всё
учи тебя! Ты польсти ей, прикинься немножко влюблённым – со второго раза она
пригласит тебя уж не в среду, а в четверг или в пятницу, ты удвой
внимательность, а я потом немножко её настрою, намекну, будто ты в самом деле –
того… Она, кажется… сколько я мог заметить… Такая чувствительная… должно быть,
слабонервная… она, я думаю, тоже не прочь от симпатии… от излияний…
– Как
это можно? – говорил в раздумье Александр. – Если б я мог ещё
влюбиться – так? а то не могу… и успеха не будет.
– Напротив,
тут-то и будет. Если б ты влюбился, ты не мог бы притворяться, она сейчас бы
заметила и пошла бы играть с вами с обоими в дураки. А теперь… да ты мне взбеси
только Суркова: уж я знаю его, как свои пять пальцев. Он, как увидит, что ему
не везёт, не станет тратить деньги даром, а мне это только и нужно… Слушай,
Александр, это очень важно для меня: если ты это сделаешь – помнишь две вазы,
что понравились тебе на заводе? они – твои: только пьедестал ты сам купи.
– Помилуйте,
дядюшка, неужели вы думаете, что я…
– Да
за что ж ты станешь даром хлопотать, терять время? Вот прекрасно! Ничего! вазы
очень красивы. В наш век без ничего ничего и не сделают. Когда я что-нибудь для
тебя сделаю, предложи мне подарок: я возьму.
– Странное
поручение! – сказал Александр нерешительно.
– Надеюсь,
ты не откажешься исполнить его для меня. Я для тебя тоже готов сделать, что
могу: когда понадобятся деньги – обратись… Так в среду! Эта история продолжится
месяц, много два. Я тебе скажу, как не нужно будет, тогда и брось.
– Извольте,
дядюшка, я готов; только странно… За успех не ручаюсь… если б я мог ещё сам влюбиться,
тогда… а то нет…
– И
очень хорошо, что не можешь, а то бы всё дело испортил. Я сам ручаюсь за успех.
Прощай!
Он ушёл,
а Александр долго ещё сидел у камина, над милым пеплом.
Когда
Пётр Иваныч воротился домой, жена спросила: что Александр, что его повесть, будет
ли он писать?
– Нет,
я его вылечил навсегда.
Адуев
рассказал ей содержание письма, полученного им с повестью, и о том, как они сожгли
всё.
– Ты
без жалости, Пётр Иваныч! – сказала Лизавета Александровна, – или не
умеешь ничего порядочно сделать, за что ни примешься.
– Ты
хорошо делала, что, принуждала его бумагу марать! разве у него есть талант?
– Нет.
Пётр
Иваныч посмотрел на неё с удивлением.
– Так
зачем же ты?..
– А
ты всё ещё не понял, не догадался?
Он
молчал и невольно вспомнил сцену свою с Александром.
– Чего
ж тут не понять? это очень ясно! – говорил он, глядя на неё во все глаза.
– А
что, скажи?
– Что…
что… ты хотела дать ему урок… только иначе, мягче, по-своему…
– Не
понимаешь, а ещё умный человек! Отчего он был всё это время весел, здоров,
почти счастлив? Оттого, что надеялся. Вот я и поддерживала эту надежду: ну,
теперь ясно?
– Так
это ты всё хитрила с ним?
– Я
думаю, это позволительно. А ты что наделал? Тебе его вовсе не жаль: отнял последнюю
надежду.
– Полно!
Какую последнюю надежду: ещё много глупостей впереди.
– Что
он теперь будет делать? Опять станет ходить повеся нос?
– Нет!
не станет: не до того будет: я задал ему работу.
– Что?
опять перевод какой-нибудь о картофеле? Разве это может занять молодого человека
и особенно пылкого и восторженного? У тебя бы только была занята голова.
– Нет,
моя милая, не о картофеле, а по заводу кое-что.
|


