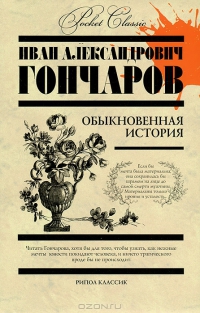
 Увеличить Увеличить |
V
Мало-помалу
Александр успел забыть и Лизу, и неприятную сцену с её отцом. Он опять стал
покоен, даже весел, часто хохотал плоским шуткам Костякова. Его смешил взгляд
этого человека на жизнь. Они строили даже планы уехать куда-нибудь подальше,
выстроить на берегу реки, где много рыбы, хижину и прожить там остаток дней.
Душа Александра опять стала утопать в тине скудных понятий и материального
быта. Но судьба не дремала, и ему не удавалось утонуть совсем в этой тине.
Осенью
он получил от тётки записку с убедительнейшею просьбою проводить её в концерт,
потому что дядя был не совсем здоров. Приехал какой-то артист, европейская
знаменитость.
– Как,
в концерт! – говорил Александр в сильной тревоге, – в концерт, опять
в эту толпу, в самый блеск мишуры, лжи, притворства… нет, не поеду…
– Поди,
чай, ещё пять рублев стоит, – заметил бывший тут Костяков.
– Билет
стоит пятнадцать рублей, – сказал Александр, – но я охотно бы дал
пятьдесят, чтоб не ехать.
– Пятнадцать! –
закричал Костяков, всплеснув руками, – вот мошенники! анафемы! ездят сюда
надувать пас, обирать деньги. Дармоеды проклятые! Не ездите, Александр Федорыч,
плюньте! Добро бы вещь какая-нибудь: взял бы домой, на стол поставил или съел;
а то послушал только, да и на: плати пятнадцать рублев! За пятнадцать рублев
можно жеребёнка купить.
– Иногда
за то, чтобы провести с удовольствием вечер, платят и дороже, – заметил
Александр.
– Провести
вечер с удовольствием! Да знаете что: пойдёмте в баню, славно проведём! Я
всякий раз, как соскучусь, иду туда – и любо; пойдёшь часов в шесть, а выйдешь
в двенадцать, и погреешься, и тело почешешь, а иногда и знакомство приятное
сведёшь: придёт духовное лицо, либо купец, либо офицер; заведут речь о
торговле, что ли, или о преставлении света… и не вышел бы! а всего по шести
гривен с человека! Не знают, где вечер провести!
Но
Александр поехал. Он со вздохом вытащил давно не надёванный, прошлогодний фрак,
натянул белые перчатки.
– Перчатки
пять рублев, итого двадцать? – считал Костяков, присутствовавший при
туалете Адуева. – Двадцать рублев так вот, в один вечер кинули! Послушать:
эко диво!
Александр
отвык одеваться порядочно. Утром он ходил на службу в покойном вицмундире,
вечером в старом сюртуке или в пальто. Ему было неловко во фраке. Там теснило,
тут чего-то недоставало; шее было слишком жарко в атласном платке.
Тётка
встретила его приветливо, с чувством благодарности за то, что он решился для
неё покинуть своё затворничество, но ни слова о его образе жизни и занятиях.
Отыскав
в зале место для Лизаветы Александровны, Адуев прислонился к колонне, под сенью
какого-то плечистого меломана, и начал скучать. Он тихонько зевнул в руку, но
не успел закрыть рта, как раздались оглушительные рукоплескания,
приветствовавшие артиста. Александр и не взглянул на него.
Заиграли
интродукцию. Через несколько минут оркестр стал стихать. К последним его звукам
прицепились чуть-чуть слышно другие, сначала резвые, игривые, как будто
напоминавшие игры детства: слышались точно детские голоса, шумные, весёлые;
потом звуки стали плавнее и мужественнее; они, казалось, выражали юношескую
беспечность, отвагу, избыток жизни и сил. Потом полились медленнее, тише, как
будто передавали нежное излияние любви, задушевный разговор, и, ослабевая,
мало-помалу, слились в страстный шёпот и незаметно смолкли…
Никто не
смел пошевелиться. Масса людей замерла в безмолвии. Наконец вырвалось у всех
единодушное ах! и шёпотом пронеслось по зале. Толпа было зашевелилась,
но вдруг звуки снова проснулись, полились crescendo[53], потоком, потом раздробились
на тысячу каскадов и запрыгали, тесня и подавляя друг друга. Они гремели, будто
упрёками ревности, кипели бешенством страсти; ухо не успевало ловить их – и
вдруг прервались, как точно у инструмента не стало более ни сил, ни голоса.
Из-под смычка стал вырываться то глухой, отрывистый стон, то слышались
плачущие, умоляющие звуки, и всё окончилось болезненным, продолжительным
вздохом. Сердце надрывалось: звуки как будто пели об обманутой любви и
безнадёжной тоске. Все страдания, вся скорбь души человеческой слышались в них.
Александр
трепетал. Он поднял голову и поглядел сквозь слёзы через плечо соседа. Худощавый
немец, согнувшись над своим инструментом, стоял перед толпой и могущественно
повелевал ею. Он кончил и равнодушно отёр платком руки и лоб. В зале раздался
рёв и страшные рукоплескания. И вдруг этот артист согнулся в свой черёд перед
толпой и начал униженно кланяться и благодарить.
«И он
поклоняется ей, – думал Александр, глядя с робостью на эту тысячеглавую
гидру, – он, стоящий так высоко перед ней!..»
Артист
поднял смычок и – всё мгновенно смолкло. Заколебавшаяся толпа слилась опять в
одно неподвижное тело. Потекли другие звуки, величавые, торжественные; от этих
звуков спина слушателя выпрямлялась, голова поднималась, нос вздёргивался выше:
они пробуждали в сердце гордость, рождали мечты о славе. Оркестр начал глухо
вторить, как будто отдалённый гул толпы, как народная молва…
Александр
побледнел и поник головой. Эти звуки, как нарочно, внятно рассказывали ему
прошедшее, всю жизнь его, горькую и обманутую.
– Посмотри,
какая мина у этого! – сказал кто-то, указывая на Александра, – я не
понимаю, как можно так обнаружиться: я Паганини слыхал, да у меня и бровь не
шевельнулась.
Александр
проклинал и приглашение тётки, и артиста, а более всего судьбу, что она не даёт
ему забыться.
«И к
чему? с какой целью? – думал он, – чего она добивается от меня? к
чему напоминать мне моё бессилие, бесполезность прошедшего, которого не
воротишь?»
Проводив
тётку до дому, он хотел было ехать к себе, но она удержала его за руку.
– Неужели
вы не зайдёте? – спросила она с упрёком.
– Нет.
– Отчего
же?
– Теперь
уже поздно; когда-нибудь в другой раз.
– И
это вы мне отказываете?
– Вам
более, нежели кому-нибудь.
– Почему
же?
– Долго
говорить. Прощайте.
– Полчаса,
Александр, слышите? не более. Если откажете, значит вы никогда ни на волос не
имели ко мне дружбы.
Она
просила с таким чувством, так убедительно, что у Александра не стало духу
отказаться, и он пошёл за ней, склонив голову. Пётр Иваныч был у себя в
кабинете.
– Неужели
я заслужила от вас одно пренебрежение, Александр? – спросила Лизавета Александровна,
усадив его у камина.
– Вы
ошибаетесь: это не пренебрежение, – отвечал он.
– Что
же это значит? как это назвать: сколько раз я писала к вам, звала к себе, вы не
шли, наконец перестали отвечать на записки.
– Это
не пренебрежение…
– Что
же?
– Так! –
сказал Александр и вздохнул. – Прощайте, ma tante.
– Постойте!
что я вам сделала? что с вами, Александр? Отчего вы такие? отчего равнодушны ко
всему, никуда не ходите, живёте в обществе не по вас?
– Да
так, ma tante; этот образ жизни мне нравится: так покойно жить, хорошо; это по
мне…
– По
вас? вы находите пищу для ума и сердца в такой жизни, с такими людьми?
Александр
кивнул головой.
– Вы
притворяетесь, Александр; вы чем-нибудь сильно огорчены, и молчите. Прежде, бывало,
вы находили, кому поверить ваше горе; вы знали, что всегда найдёте утешение
или, по крайней мере, сочувствие; а теперь разве у вас никого уж нет?
– Никого!..
– Вы
никому не верите?
– Никому.
– Разве
вы не вспоминаете иногда о вашей матушке… о её любви к вам… ласках?.. Неужели
вам не приходило в голову, что, может быть, кто-нибудь и здесь любит вас, если
не так, как она, то, по крайней мере, как сестра или, ещё больше, как друг?
– Прощайте,
ma tante! – сказал он.
– Прощайте,
Александр: я вас не удерживаю более, – отвечала тётка. У ней навернулись
слёзы.
Александр
взял было шляпу, но потом положил и поглядел на Лизавету Александровну.
– Нет,
не могу бежать от вас: недостаёт сил! – сказал он, – что вы делаете
со мной?
– Будьте
опять прежним Александром, хоть на одну минуту. Расскажите, поверьте мне всё…
– Да,
я не могу молчать перед вами: вам выскажу всё, что у меня на душе, –
сказал он. – Вы спрашиваете, отчего я прячусь от людей, отчего я ко всему
равнодушен, отчего не вижусь даже с вами?.. отчего? Знайте же, что жизнь давно
опротивела мне, и я избрал себе такой быт, где она меньше заметна. Я ничего не
хочу, не ищу, кроме покоя, сна души. Я изведал всю пустоту и всю ничтожность
жизни – и глубоко презираю её. Кто жил и мыслил, тот не может в душе не презирать
людей[54].
Деятельность, хлопоты, заботы, развлечение – всё надоело мне. Я ничего не хочу
добиваться и искать; у меня нет цели, потому что к чему повлечешься, достигнешь
– и увидишь, что всё призрак. Радости для меня миновали; я к ним охладел. В образованном
мире, с людьми, я сильнее чувствую невыгоды жизни, а у себя, один, вдалеке от
толпы, я одеревенел: случись что хочет в этом сне – я не замечаю ни людей, ни
себя. Я ничего не делаю и не вижу ни чужих, ни своих поступков – и покоен… мне
всё равно: счастья не может быть, а несчастье не проймёт меня…
– Это
ужасно! Александр, – сказала тётка, – в эти лета такое охлаждение ко
всему…
– Чему
вы удивляетесь, ma tante? Отделитесь на минуту от тесного горизонта, в котором
вы заключены, посмотрите на жизнь, на мир: что это такое?.. Что вчера велико,
сегодня ничтожно; чего хотел вчера, не хочешь сегодня; вчерашний друг – сегодня
враг. Стоит ли хлопотать из чего-нибудь, любить, привязываться, ссориться,
мириться – словом, жить? не лучше ли спать и умом и сердцем? Я и сплю, оттого и
не хожу никуда, и к вам особенно… Я уснул было совсем, а вы будите и ум и
сердце и толкаете их опять в омут. Если хотите видеть меня весёлым, здоровым,
может быть живым, даже, пожалуй, по понятиям дядюшки, счастливым, –
оставьте меня там, где я теперь. Дайте успокоиться этим волнениям; пусть мечты
улягутся, пусть ум оцепенеет совсем, сердце окаменеет, глаза отвыкнут от слёз,
губы от улыбки – и тогда, через год, через два, я приду к вам совсем готовый на
всякое испытание; тогда не пробудите, как ни старайтесь, а теперь…
Он
сделал отчаянный жест.
– Смотрите,
Александр, – живо перебила тётка, – вы в одну минуту изменились; у
вас слёзы на глазах; вы ещё всё те же; не притворяйтесь же, не удерживайте
чувства, дайте ему волю…
– Зачем?
я не буду лучше от этого! я буду только сильнее мучиться. Нынешний вечер уничтожил
меня в собственных глазах. Я ясно понял, что не имею права никого винить в
своей тоске. Я сам погубил свою жизнь. Я мечтал о славе, бог знает с чего, и
пренебрёг своим делом; я испортил своё скромное назначение и теперь не поправлю
прошлого: поздно! Я бежал толпы, презирал её, – а этот немец, с своей
глубокой, сильной душой, с поэтической натурой, не отрекается от мира и не
бежит от толпы: он гордится её рукоплесканиями. Он понимает, что он едва
заметное кольцо в бесконечной цепи человечества; он то же всё знает, что я: ему
знакомы страдания. Слышали, как он рассказал в звуках всю жизнь: и радости, и
горечь её, и счастье, и скорбь души? она понятна ему. Как стал я сегодня вдруг
мелок, ничтожен в собственных глазах, с своей тоской, страданиями!.. Он
пробудил во мне горькое сознание, что я горд – и бессилен… Ах, зачем вы вызвали
меня? Прощайте, пустите меня.
– Чем
же я виновата, Александр? неужели я могла пробудить в вас горькое чувство –
я?..
– Вот
то-то и беда! ваше ангельское, доброе лицо, ma tante, кроткие речи, дружеское
пожатие руки – всё это смущает и трогает меня: мне хочется плакать, хочется
опять жить, томиться… а зачем?
– Как
зачем? Останьтесь всегда с нами; и если вы считаете меня хоть немного достойною
вашей дружбы, стало быть, вы найдёте утешение и в другой; не одна я такая… вас
оценят.
– Да!
вы думаете, это всегда будет утешать меня? вы думаете, я поверю этому минутному
умилению? Вы, точно, женщина в благороднейшем смысле слова: вы созданы на
радость, на счастье мужчины; да можно ли надеяться на это счастье? можно ли
поручиться, что оно прочно, что сегодня, завтра судьба не обернёт вверх дном
этой счастливой жизни, – вот вопрос! Можно ли верить чему-нибудь и
кому-нибудь, даже себе? Не лучше ли жить без всяких надежд и волнений, не
ожидать ничего, не искать радостей и, стало быть, не оплакивать потерь?..
– От
судьбы вы нигде не уйдёте, Александр: и там, где вы теперь, она всё будет
преследовать вас…
– Да,
правда; только там судьбе не над чем забавляться, больше забавляюсь я над нею:
смотришь, то рыба сорвётся с удочки, когда уж протянул к ней руку, то дождь
пойдёт, когда собрался за город, или погода хороша, да самому не хочется… ну и
смешно…
У
Лизаветы Александровны недоставало более возражений.
– Вы
женитесь… будете любить…– сказала она нерешительно.
– Женюсь!
вот ещё! Неужели вы думаете, что я вверю своё счастье женщине, если б даже и
полюбил её, чего тоже быть не может? или неужели вы думаете, что я взялся бы
сделать женщину счастливой? Нет, я знаю, что мы обманем друг друга и оба
обманемся. Дядюшка Пётр Иваныч и опыт научили меня…
– Пётр
Иваныч! да, он много виноват! – сказала Лизавета Александровна со
вздохом, – но вы имели право не слушать его… и были бы счастливы в
супружестве…
– Да,
в деревне, конечно; а теперь… Нет, ma tante, супружество не для меня. Я теперь
не могу притвориться, когда разлюблю и перестану быть счастлив; не могу также
не увидеть, когда жена притворится; будем оба хитрить, как хитрите… например,
вы и дядюшка…
– Мы? –
с изумлением и с испугом спросила Лизавета Александровна.
– Да,
вы! Скажите-ка, так ли вы счастливы, как мечтали некогда?
– Не
так, как мечтала… но счастлива иначе, нежели мечтала, разумнее, может быть, больше
– не всё ли это равно?.. – с замешательством отвечала Лизавета
Александровна, – и вы тоже…
– Разумнее!
Ах, ma tante, не вы бы говорили: так дядюшкой и отзывается! Знаю я это счастье
по его методе: разумнее – так, но больше ли? ведь у него всё счастье, несчастья
нет. Бог с ним! Нет! моя жизнь исчерпана; я устал, утомился жить…
Оба
замолчали. Александр поглядывал на шляпу; тётка придумывала, чем бы ещё остановить
его.
– А
талант! – вдруг сказала она с живостью.
– Э!
ma tante! охота вам смеяться надо мной! Вы забыли русскую пословицу: лежачего
не бьют. У меня таланта нет, решительно нет. У меня есть чувство, была
горячая голова; мечты я принял за творчество и творил. Недавно ещё я нашёл
кое-что из старых грехов, прочёл – и самому смешно стало. Дядюшка прав, что
принудил меня сжечь всё, что было. Ах, если б я мог воротить прошедшее! Не так
я распорядился им.
– Не
разочаровывайтесь до конца! – сказала она, – всякому из нас послан
тяжкий крест…
– Кому
это крест? – спросил Пётр Иваныч, входя в комнату. – Здравствуй,
Александр! тебе, что ли?
Пётр
Иваныч сгорбился и шёл, едва передвигая ноги.
– Только
не такой, как ты думаешь, – сказала Лизавета Александровна, – я
говорю о тяжком кресте, который несёт Александр…
– Что
он там ещё несёт? – спросил Пётр Иваныч, опускаясь с величайшею
осторожностью в кресла. – Ох! какая боль! что это за наказание!
Лизавета
Александровна помогла ему сесть, подложила под спину подушку, под ноги подвинула
скамеечку.
– Что
с вами, дядюшка? – спросил Александр.
– Видишь:
тяжкий крест несу! Ох, поясница! Вот крест, так крест: дослужился-таки до него!
Ох, боже мой!..
– Вольно
же тебе так много сидеть: ты знаешь здешний климат, – сказала Лизавета Александровна, –
доктор велел больше ходить, так нет: утро пишет, а вечером в карты играет.
– Что
ж, я стану разиня рот по улицам ходить да время терять?
– Вот
и наказан.
– Этого
здесь не минуешь, если хочешь заниматься делом. У кого не болит поясница? Это
почти вроде знака отличия у всякого делового человека… ох! не разогнёшь спины.
Ну, а что ты, Александр, делаешь?
– Всё
то же, что прежде.
– А!
ну так у тебя поясница не заболит. Это удивительно, право!
– Что
ж ты удивляешься: не ты ли сам отчасти виноват, что он стал такой… –
сказала Лизавета Александровна.
– Я?
вот это мне нравится! я приучил его ничего не делать!
– Точно,
дядюшка, вам нечему удивляться, – сказал Александр, – вы много
помогли обстоятельствам сделать из меня то, что я теперь; но я вас не виню. Я
сам виноват, что не умел или, лучше сказать, не мог воспользоваться вашими
уроками как следует, потому что не был приготовлен к ним. Вы, может быть, отчасти
виноваты тем, что поняли мою натуру с первого раза и, несмотря на то, хотели
переработать её; вы, как человек опытный, должны были видеть, что это
невозможно… вы возбудили во мне борьбу двух различных взглядов на жизнь и не
могли примирить их: что ж вышло? Всё превратилось во мне в сомнение, в какой-то
хаос.
– Ох,
поясница! – стонал Пётр Иваныч. – Хаос! ну, вот из хаоса я и хотел
сделать что-нибудь.
– Да!
а что сделали? представили мне жизнь в самой безобразной наготе, и в какие
лета? когда я должен был понимать её только с светлой стороны.
– То
есть я старался представить тебе жизнь, как она есть, чтоб ты не забирал себе в
голову, чего нет. Я помню, каким ты молодцом приехал из деревни: надо ж было
предостеречь тебя, что здесь таким быть нельзя. Я предостерёг тебя, может быть,
от многих ошибок и глупостей: если б не я, ты бы их ещё не столько наделал!
– Может
быть. Но вы только выпустили одно из виду, дядюшка: счастье. Вы забыли, что
человек счастлив заблуждениями, мечтами и надеждами; действительность не
счастливит…
– Какую
ты дичь несёшь! Это мнение привёз ты прямо с азиатской границы: в Европе давно
перестали верить этому. Мечты, игрушки, обман – всё это годится для женщин и
детей, а мужчине надо знать дело, как оно есть. По-твоему, это хуже, нежели
обманываться?
– Да,
дядюшка, что ни говорите, а счастье соткано из иллюзий, надежд, доверчивости к
людям, уверенности в самом себе, потом из любви, дружбы… А вы твердили мне, что
любовь – вздор, пустое чувство, что легко, и даже лучше, прожить без него, что
любить страстно – не великое достоинство, что этим не перещеголяешь животное…
– Да
ты вспомни, как ты хотел любить: сочинял плохие стихи, говорил диким языком,
так что до смерти надоел этой, твоей… Груне, что ли! Этим ли привязывают
женщину?
– Чем
же? – сухо спросила Лизавета Александровна мужа.
– Ох,
как колет поясницу! – простонал Пётр Иваныч.
– Потом
вы твердили, – продолжал Александр, – что привязанности глубокой,
симпатической нет, а есть одна привычка…
Лизавета
Александровна молча и глубоко посмотрела на мужа.
– То
есть я, вот видишь ли, я говорил тебе для того… чтоб… ты… того… ой, ой,
поясница!
– И
вы говорили это, – продолжал Александр, – двадцатилетнему мальчику,
для которого любовь – всё, которого деятельность, цель – всё вертится около
этого чувства: им он может спастись или погибнуть.
– Точно
двести лет назад родился! – бормотал Пётр Иваныч, – жить бы тебе при
царе Горохе.
– Вы
растолковали мне, – говорил Александр, – теорию любви, обманов,
измен, охлаждений… зачем? я знал всё это прежде, нежели начал любить; а любя, я
уж анализировал любовь, как ученик анатомирует тело под руководством профессора
и вместо красоты форм видит только мускулы, нервы…
– Однако,
я помню, это не помешало тебе сходить с ума по этой… как её?.. Дашеньке, что
ли?
– Да;
но вы не дали мне обмануться: я бы видел в измене Наденьки несчастную случайность
и ожидал бы до тех пор, когда уж не нужно было бы любви, а вы сейчас подоспели
с теорией и показали мне, что это общий порядок, – и я, в двадцать пять
лет, потерял доверенность к счастью и к жизни и состарелся душой. Дружбу вы
отвергали, называли и её привычкой; называли себя, и то, вероятно, шутя, лучшим
моим другом, потому разве, что успели доказать, что дружбы нет.
Пётр
Иваныч слушал и поглаживал одной рукой спину. Он возражал небрежно, как человек,
который, казалось, одним словом мог уничтожить все взводимые на него обвинения.
– И
дружбу хорошо ты понимал, – сказал он, – тебе хотелось от друга такой
же комедии, какую разыграли, говорят, в древности вон эти два дурака… как их?
что один ещё остался в залоге, пока друг его съездил повидаться… Что, если б
все-то так делали, ведь просто весь мир был бы дом сумасшедших!
– Я
любил людей, – продолжал Александр, – верил в их достоинства, видел в
них братьев, простёр было к ним горячие объятия…
– Да,
очень нужно! Помню твои объятия, – перебил Пётр Иваныч, – ты мне ими
тогда порядочно надоел.
– А
вы показали мне, чего они стоят. Вместо того, чтоб руководствовать моё сердце в
привязанностях, вы научили меня не чувствовать, а разбирать, рассматривать и
остерегаться людей; я рассмотрел их – и разлюбил!
– Кто
ж тебя знал! Видишь, ведь ты какой прыткий: я думал, что ты от этого будешь
только снисходительнее к ним. Я вот знаю их, да не возненавидел…
– Что
ж, ты любишь людей? – спросила Лизавета Александровна.
– Привык…
к ним.
– Привык! –
повторила она монотонно.
– И
он бы привык, – сказал Пётр Иваныч, – да он уж прежде был сильно
испорчен в деревне тёткой да жёлтыми цветами, оттого так туго и развивается.
– Потом
я верил в самого себя, – начал опять Александр, – вы показали мне,
что я хуже других, – я возненавидел и себя.
– Если
б ты рассматривал дело похладнокровнее, так увидел бы, что ты не хуже других и
не лучше, чего я и хотел от тебя: тогда не возненавидел бы ни других, ни себя,
а только равнодушнее сносил бы людские глупости и был бы повнимательнее к
своим. Я вот знаю цену себе, вижу, что нехорош, а признаюсь, очень люблю себя.
– А!
тут любишь, а не привык! – холодно заметила Лизавета
Александровна.
– Ох,
поясница! – заохал Пётр Иваныч.
– Наконец
вы, одним ударом, без предостережения, без жалости, разрушили лучшую мечту мою:
я думал, что во мне есть искра поэтического дарования; вы жестоко доказали мне,
что я не создан жрецом изящного; вы с болью вырвали у меня эту занозу из сердца
и предложили мне труд, который был мне противен. Без вас я писал бы…
– И
был бы известен публике как бездарный писатель, – перебил Пётр Иваныч.
– Что
мне до публики? Я хлопотал о себе, я приписывал бы свои неудачи злости, зависти,
недоброжелательству и мало-помалу свыкся бы с мыслью, что писать не нужно, и
сам бы принялся за другое. Чему же вы удивляетесь, что я, узнавши всё, упал
духом?..
– Ну,
что скажешь? – спросила Лизавета Александровна.
– Не
хочется и говорить-то: как отвечать на такой вздор? Я виноват, что ты, едучи
сюда, воображал, что здесь все цветы жёлтые, любовь да дружба; что люди только
и делают, что одни пишут стихи, другие слушают да изредка, так, для
разнообразия, примутся за прозу?..
Я
доказывал тебе, что человеку вообще везде, а здесь в особенности, надо
работать, и много работать, даже до боли в пояснице… цветов жёлтых нет, есть
чины, деньги: это гораздо лучше! Вот что я хотел доказать тебе! я не
отчаивался, что ты поймёшь наконец, что такое жизнь, особенно как её теперь
понимают. Ты и понял, да как увидел, что в ней мало цветов и стихов, и
вообразил, что жизнь – большая ошибка, что ты видишь это и оттого имеешь право
скучать; другие не замечают и оттого живут припеваючи. Ну чем ты недоволен?
чего тебе недостаёт? Другой на твоём месте благословил бы судьбу. Ни нужда, ни
болезнь, никакое реальное горе не дотрогивалось до тебя. Чего у тебя нет?
Любви, что ли? Мало ещё тебе: любил ты два раза и был любим. Тебе изменили, ты
поквитался. Мы решили, что друзья у тебя есть, какие у другого редко бывают: не
фальшивые; в воду за тебя, правда, не бросятся и на костёр не полезут,
обниматься тоже не охотники; да ведь это до крайности глупо; пойми, наконец! но
зато совет, помощь, даже деньги – всегда найдёшь… Это ли ещё не друзья? Со
временем ты женишься; карьера перед тобой: займись только; а вместе с ней и
фортуна. Делай всё, как другие, – судьба не обойдёт тебя: найдёшь своё.
Смешно воображать себя особенным, великим человеком, когда ты не создан таким!
Ну о чём же ты горюешь?
– Я
вас не виню, дядюшка, напротив, я умею ценить ваши намерения и от души
благодарю за них. Что делать, что они не удались? Не вините же и меня. Мы не
поняли друг друга – вот в чём наша беда! Что может нравиться и годиться вам,
другому, третьему – не нравится мне…
– Нравится
мне, другому, третьему!.. не то говоришь, милый! разве я один так думаю и
действую, как учил думать и действовать тебя?.. Посмотри кругом: рассмотри
массу – толпу, как ты называешь её, – не ту, что в деревне живёт:
туда это долго не дойдёт, а современную, образованную, мыслящую и действующую:
чего она хочет и к чему стремится? как мыслит? и увидишь, что именно так, как я
учил тебя. Чего я требовал от тебя – не я всё это выдумал.
– Кто
же? – спросила Лизавета Александровна.
– Век.
– Так
непременно и надо следовать всему, что выдумает твой век? – спросила
она, – так всё и свято, всё и правда?
– Всё
и свято! – сказал Пётр Иваныч.
– Как!
правда, что надо больше рассуждать, нежели чувствовать? Не давать воли сердцу,
удерживаться от порывов чувства? не предаваться и не верить искреннему
излиянию?
– Да, –
сказал Пётр Иваныч.
– Действовать
везде по методе, меньше доверять людям, считать всё ненадёжным и жить одному
про себя?
– Да.
– И
это свято, что любовь не главное в жизни, что надо больше любить своё дело,
нежели любимого человека, не надеяться ни на чью преданность, верить, что
любовь должна кончаться охлаждением, изменой или привычкой? что дружба
привычка? Это всё правда?
– Это
была всегда правда, – отвечал Пётр Иваныч, – только прежде не хотели
верить ей, а нынче это сделалось общеизвестной истиной.
– Свято
и это, что всё надо рассматривать, всё рассчитывать и обдумывать, не позволять
себе забыться, помечтать, увлечься хоть и обманом, лишь бы быть оттого
счастливым?..
– Свято,
потому что разумно, – сказал Пётр Иваныч.
– Правда
и это, что умом надобно действовать и с близкими сердцу… например, с женой?..
– У
меня ещё никогда так не болела поясница… ох! – сказал Пётр Иваныч, корчась
на стуле.
– А!
поясница! Хорош век! нечего сказать.
– Очень
хорош, милая; так, из капризов, ничего не делается; везде разум, причина, опыт,
постепенность и, следовательно, успех; всё стремится к совершенствованию и
добру.
– В
ваших словах, дядюшка, может быть, есть и правда, – сказал
Александр, – но она не утешает меня. Я по вашей теории знаю всё, смотрю на
вещи вашими глазами; я воспитанник вашей школы, а между тем мне скучно жить,
тяжело, невыносимо… Отчего же это?
– А
от непривычки к новому порядку. Не один ты такой: ещё есть отсталые; это всё страдальцы.
Они точно жалки; но что ж делать? Нельзя же для горсти людей оставаться назади
целой массе. На всё, в чём ты меня сейчас обвинил, – сказал Пётр Иваныч,
подумав, – у меня есть одно и главное оправдание: помнишь ли, когда ты
явился сюда, я, после пятиминутного разговора с тобой, советовал тебе ехать
назад? Ты не послушал. За что ж теперь нападаешь на меня? Я предсказал тебе,
что ты не привыкнешь к настоящему порядку вещей, а ты понадеялся на моё руководство,
просил советов… говорил высоким слогом о современных успехах ума, о стремлениях
человечества… о практическом направлении века – ну вот тебе! Нельзя же мне было
нянчиться с тобой с утра до вечера: что мне за надобность? Я не мог ни
закрывать тебе рта платком на ночь от мух, ни крестить тебя. Я говорил тебе дело,
потому что ты просил меня об этом; а что из этого вышло, то уж до меня не
касается. Ты не ребёнок и не глуп: можешь рассудить и сам… Тут чем бы своё дело
делать, ты – то стонешь от измены девчонки, то плачешь в разлуке с другом, то
страдаешь от душевной пустоты, то от полноты ощущений; ну что это за жизнь?
Ведь это пытка! Посмотри-ка на нынешнюю молодёжь: что за молодцы! Как всё кипит
умственною деятельностью, энергией, как ловко и легко управляются они со всем
этим вздором, что на вашем старом языке называется треволнениями,
страданиями… и чёрт знает что ещё!
– Как
ты легко рассуждаешь! – сказала Лизавета Александровна, – и тебе не
жаль Александра?
– Нет.
Вот если б у него болела поясница, так я бы пожалел: это не вымысел, не мечта,
не поэзия, а реальное горе.. Ох!
– Научите
же меня, дядюшка, по крайней мере, что мне делать теперь? Как вы вашим умом
разрешите эту задачу?
– Что
делать? Да… ехать в деревню.
– В
деревню! – повторила Лизавета Александровна, – в уме ли ты, Пётр
Иваныч? Что он там станет делать?
– В
деревню! – повторил Александр, и оба глядели на Петра Иваныча.
– Да,
в деревню: там ты увидишься с матерью, утешишь её. Ты же ищешь покойной жизни:
здесь вон тебя всё волнует; а где покойнее, как не там, на озере, с тёткой…
Право, поезжай! А кто знает? может быть, ты и того… Ох!
Он
схватился за спину.
Недели
через две Александр вышел в отставку и пришёл проститься с дядей и тёткой. Тётка
и Александр были грустны и молчаливы. У Лизаветы Александровны висели слёзы на
глазах. Пётр Иваныч говорил один.
– Ни
карьеры, ни фортуны! – говорил он, качая головою, – стоило приезжать!
осрамил род Адуевых!
– Да
полно, Пётр Иваныч, – сказала Лизавета Александровна, – ты надоел с
своей карьерой.
– Как
же, милая, в восемь лет ничего не сделать!
– Прощайте,
дядюшка, – сказал Александр. – Благодарю вас за всё, за всё…
– Не
за что! Прощай, Александр! Не надо ли денег на дорогу?
– Нет,
благодарю: мне станет.
– Что
это, никогда не возьмёт! это, наконец, бесит меня. Ну, с богом, с богом.
– И
тебе не жаль расстаться с ним? – промолвила Лизавета Александровна.
– M-м! –
промычал Пётр Иваныч, – я… привык к нему. Помни же, Александр, что у тебя
есть дядя и друг – слышишь? и если понадобятся служба, занятия и презренный
металл, смело обратись ко мне: всегда найдёшь и то, и другое, и третье.
– А
если понадобится участие, – сказала Лизавета Александровна, –
утешение в горе, тёплая, надёжная дружба…
– И
искренние излияния, – прибавил Пётр Иваныч.
–…так
вспомните, – продолжала Лизавета Александровна, – что у вас есть
тётка и друг.
– Ну,
этого, милая, и в деревне не занимать стать: всё есть: и цветы, и любовь, и
излияния, и даже тётка.
Александр
был растроган; он не мог сказать ни слова. Прощаясь с дядей, он простёр было к
нему объятия, хоть и не так живо, как восемь лет назад. Пётр Иваныч не обнял
его, а взял только его за обе руки и пожал их крепче, нежели восемь лет назад.
Лизавета Александровна залилась слезами.
– Ух!
гора с плеч, слава богу! – сказал Пётр Иваныч, когда Александр
уехал, – как будто и пояснице легче стало!
– Что
он тебе сделал? – промолвила сквозь слёзы жена.
– Что?
просто мученье: хуже, чем с фабричными: тех, если задурят, так посечешь; а с
ним что станешь делать?
Тётка
проплакала целый день, и когда Пётр Иваныч спросил обедать, ему сказали, что стола
не готовили, что барыня заперлась у себя в кабинете и не приняла повара.
– А
всё Александр! – сказал Пётр Иваныч. – Что это за мука с ним!
Он
поворчал, поворчал и поехал обедать в английский клуб.
Дилижанс
рано утром медленно тащился из города и увозил Александра Федорыча и Евсея.
Александр,
высунув голову из окна кареты, всячески старался настроить себя на грустный тон
и наконец мысленно разрешился монологом.
Проезжали
мимо куафёров, дантистов, модисток, барских палат. «Прощай, – говорил он,
покачивая головой и хватаясь за свои жиденькие волосы, – прощай, город
поддельных волос, вставных зубов, ваточных подражаний природе, круглых шляп,
город учтивой спеси, искусственных чувств, безжизненной суматохи! Прощай,
великолепная гробница глубоких, сильных, нежных и тёплых движений души. Я здесь
восемь лет стоял лицом к лицу с современною жизнью, но спиною к природе, и она
отвернулась от меня: я утратил жизненные силы и состарился в двадцать девять
лет; а было время…
Прощай,
прощай, город,
Где
я страдал, где я любил,
Где
сердце я похоронил.[55]
К вам
простираю объятия, широкие поля, к вам, благодатные веси и пажити моей родины:
примите меня в своё лоно, да оживу и воскресну душой!»
Тут он
прочёл стихотворение Пушкина: «Художник варвар кистью сонной» и т.д., отёр
влажные глаза и спрятался в глубину кареты.
|


