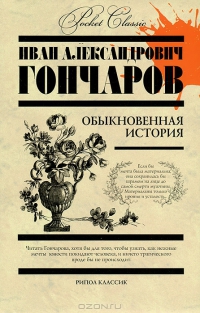
 Увеличить Увеличить |
II
Пётр
Иванович Адуев, дядя нашего героя, так же как и этот, двадцати лет был
отправлен в Петербург старшим своим братом, отцом Александра, и жил там
безвыездно семнадцать лет. Он не переписывался с родными после смерти брата, и
Анна Павловна ничего не знала о нём с тех пор, как он продал своё небольшое
имение, бывшее недалеко от её деревни.
В
Петербурге он слыл за человека с деньгами, и, может быть, не без причины;
служил при каком-то важном лице чиновником особых поручений и носил несколько
ленточек в петлице фрака; жил на большой улице, занимал хорошую квартиру,
держал троих людей и столько же лошадей. Он был не стар, а что называется
«мужчина в самой поре» – между тридцатью пятью и сорока годами. Впрочем, он не
любил распространяться о своих летах, не по мелкому самолюбию, а вследствие
какого-то обдуманного расчёта, как будто он намеревался застраховать свою жизнь
подороже. По крайней мере в его манере скрывать настоящие лета не видно было
суетной претензии нравиться прекрасному полу.
Он был
высокий, пропорционально сложённый мужчина, с крупными, правильными чертами
смугло-матового лица, с ровной, красивой походкой, с сдержанными, но приятными
манерами. Таких мужчин обыкновенно называют bel homme[1].
В лице
замечалась также сдержанность, то есть уменье владеть собою, не давать лицу
быть зеркалом души. Он был того мнения, что это неудобно – и для себя и для
других. Таков он был в свете. Нельзя, однако ж, было назвать лица его
деревянным: нет, оно было только покойно. Иногда лишь видны были на нём следы
усталости – должно быть, от усиленных занятий. Он слыл за деятельного и
делового человека. Одевался он всегда тщательно, даже щеголевато, но не чересчур,
а только со вкусом; бельё носил отличное; руки у него были полны и белы, ногти
длинные и прозрачные.
Однажды
утром, когда он проснулся и позвонил, человек, вместе с чаем, принёс ему три
письма и доложил, что приходил какой-то молодой барин, который называл себя
Александром Федорычем Адуевым, а его – Петра Иваныча – дядей, и обещался зайти
часу в двенадцатом.
Пётр
Иваныч по обыкновению выслушал это известие покойно, только немного навострил
уши и поднял брови.
– Хорошо,
поди, – сказал он слуге. Потом взял одно письмо, хотел распечатать, но
остановился и задумался.
– Племянник
из провинции – вот сюрприз! – ворчал он, – а я надеялся, что меня
забыли в том краю! Впрочем, что с ними церемониться! отделаюсь…
Он опять
позвонил.
– Скажи
этому господину, как придёт, что я, вставши, тотчас уехал на завод и ворочусь через
три месяца.
– Слушаю-с, –
отвечал слуга, – а с гостинцами что прикажете делать?
– С
какими гостинцами?
– Привёз
их человек: барыня, говорит, деревенских гостинцев прислала.
– Гостинцев?
– Да-с:
кадочка мёду, мешок сушёной малины…
Пётр
Иваныч пожал плечами.
– Ещё
два куска полотна, да варенье…
– Воображаю,
хорошо должно быть полотно…
– Полотно
хорошее и варенье сахарное.
– Ну,
поди, я посмотрю сейчас.
Он взял
одно письмо, распечатал и окинул взглядам страницу. Точно крупная славянская
грамота: букву в заменяли две перечёркнутые сверху и снизу палочки, а
букву к просто две палочки; писано без знаков препинания.
Адуев
стал читать вполголоса:
«М.
г. Пётр Иваныч!
Будучи
с покойным вашим родителем коротко знакомы и приятели, да и вас самих в детстве
тешил немало и в доме вашем частенько хлеба и соли отведывал, потому и питаю
уверительную надежду на ваше усердие и благорасположение, что не забыли
старика, Василья Тихоныча, а мы вас здесь и родителей ваших всячески добром поминаем
и бога молим…»
– Что
за дичь? От кого это? – сказал Пётр Иваныч, поглядев на подпись. –
Василий Заезжалов! Заезжалов – хоть убей – не помню. Чего он хочет от меня?
И стал
читать дальше.
«А
моя покорнейшая просьба и докука к вам – не откажите, батюшка, вам в Петербурге
не то, что нам, здешним, чай, всё известно и всё своё да родное. Навязалось на
меня проклятое тяжебное дело, да вот седьмой год и с шеи не могу спихнуть: изволите
помнить лесишко, что в двух верстах от моей деревушки? Палата сделала ошибку в
купчей, а противник мой, Медведев, и упёрся на неё: пункт, говорит, фальшивый,
да и только. Медведев тот самый, что в ваших дачах всё без спросу рыбу ловил;
покойник батюшка ваш гонял его и срамил, хотел на своеволие и губернатору
жаловаться, да по доброте, дай бог ему царствие небесное, спускал, а не надо бы
щадить этакого злодея. Помогите, батюшка, Пётр Иваныч; дело теперь в Правительствующем
сенате; не знаю там, в каком департаменте и у кого, да вам, чай, сейчас
покажут. Съездите к секретарям и сенаторам, склоните их в мою пользу, скажите,
что от ошибки, истинно от ошибки в купчей страдаю: для вас всё сделают. Там же
уж кстати выхлопочите мне патенты на три чина да пришлите ко мне. Ещё, батюшка,
Пётр Иваныч, есть дельце до вас крайней потребности: взойдите в сердечное
участие к безвинно-угнетённому страдальцу и помогите советом и делом. Есть у
нас в губернском правлении советник Дрожжов, золото, а не человек; умрёт, а
своего не выдаст; в городе другой квартиры не знаю, как у него, – как
приеду, прямо к нему, живу по неделям – и боже сохрани – и подумать у другого
остановиться, закормит, запоит; а бостончик от обеда до глубокой ночи. И
этакого-то человека обнесли и ныне нудят подать просьбу об отставке. Побывайте,
отец родной, у всех вельмож там, внушите им, какой человек Афанасий Иваныч;
дело ли делать – так и кипит в руках; скажите, что донос, дескать, на него
сделан фальшиво, по проискам губернаторского секретаря, – вас послушают, и
отпишите с первой почтой ко мне. Да повидайтесь со старинным моим сослуживцем,
Костяковым. Я слышал от одного приезжего, Студеницына, вашего же петербургского
– чай, изволите знать, – что он живёт на Песках; там ребятишки укажут дом;
отпишите с той же почтой, не поленитесь, жив ли он, здоров ли, что делает,
помнит ли меня? Познакомьтесь и подружитесь с ним: прекрасный человек – душа
нараспашку, и балагур такой. Кончаю письмецо ещё просьбицей…»
Адуев
перестал читать, медленно разорвал письмо на четыре части и бросил под стол в
корзинку, потом потянулся и зевнул.
Он взял
другое письмо и начал читать также вполголоса.
«Любезный
братец, милостивый государь, Пётр Иваныч!»
– Это
что за сестрица! – сказал Адуев, глядя на подпись: – Марья
Горбатова… – Он обратил лицо к потолку, припоминая что-то…
– Что
бишь это такое? что-то знакомое… ба, вот прекрасно – ведь брат женат был на Горбатовой;
это её сестра, это та… а! помню…
Он
нахмурился и стал читать.
«Хотя
рок разлучил нас, может быть, навеки и бездна лежит между нами; прошли года…»
Он
пропустил несколько строчек и читал далее:
«По
гроб жизни буду помнить, как мы вместе, гуляючи около нашего озера, вы, с опасностию
жизни и здоровья, влезли по колено в воду и достали для меня в тростнике
большой жёлтый цветок, как из стебелька оного тёк какой-то сок и перемарал нам
руки, а вы почерпнули картузом воды, дабы мы могли их вымыть; мы очень много
тогда этому смеялись. Как я была тогда счастлива! Сей цветок и ныне хранится в
книжке…»
Адуев
остановился. Видно было, что это обстоятельство ему очень не нравилось; он даже
недоверчиво покачал головой.
«А
цела ли у вас та ленточка (продолжал он читать), что вы вытащили из моего
комода, несмотря на все мои крики и моления…»
– Я
вытащил ленточку! – сказал он вслух, сильно нахмурившись. Помолчав,
пропустил ещё несколько строк и читал:
«А
я обрекла себя на незамужнюю жизнь и чувствую себя весьма счастливою; никто не
запретит воспоминать сии блаженные времена…»
«А,
старая девка! – подумал Пётр Иваныч. – Немудрёно, что у ней ещё
жёлтые цветы на уме! Что там ещё?»
«Женаты
ли вы, любезнейший братец, и на ком? Кто та милая подруга, украсившая собой
путь вашего бытия, назовите мне её; я буду её любить, как родную сестру, и в
мечтах соединять образ её с вашим, буду молиться. А если не женаты, то по какой
причине – напишите откровенно: ваших тайн никто у меня не прочтёт, я буду
хранить их на своей груди, их вырвут у меня вместе с сердцем. Не медлите; сгораю
нетерпением читать ваши неизъяснимые строки…»
«Нет,
вот твои так неизъяснимые строки!» – подумал Пётр Иваныч.
«Я
не знала (читал он), что милый наш Сашенька вдруг вздумает посетить великолепную
столицу, – счастливец! увидит прекрасные домы и магазины, будет
наслаждаться роскошью и прижмёт к своей груди обожаемого дядю, – а я, я в
то время буду лить слёзы, вспоминая счастливое время. Если бы я знала о его
отъезде, дни и ночи сидела бы и вышила бы для вас подушку: арап с двумя
собаками; вы не поверите, как я много раз плакала, глядя на сей узор: что может
быть святее дружбы и верности?.. Теперь меня занимает сия одна мысль; ей
посвящу дни свои, но не имею здесь хорошей шерсти, и потому покорнейше прошу,
любезнейший братец, выслать. вот по этим образчикам, что я тут вложила, что ни
есть наилучшей английской шерсти, в самом скором времени, из первого магазина.
Но что я говорю? какая ужасная мысль останавливает перо моё! может быть, уже вы
забыли нас, и где вам помнить бедную страдалицу, которая удалилась от света и
льёт слёзы? Но нет! я не могу подумать, чтоб вы могли быть извергом, как все
мужчины: нет! мне сердце говорит, что вы сохранили к нам ко всем прежние
чувствования среди роскоши и удовольствий великолепной столицы. Сия мысль
служит бальзамом для моего страждущего сердца. Простите, не могу более
продолжать, рука моя дрожит…
Остаюсь
по гроб ваша
Марья
Горбатова.
P.
S. Нет ли, братец, у вас хорошеньких книжек? пришлите, если вам не нужно: я бы
на каждой странице вспоминала вас, плакала бы, или возьмите в лавке новых, коли
недорого. Говорят, очень хороши сочинения господина Загоскина[2] и господина
Марлинского[3], –
хоть их; а то я ещё видела в газетах заглавие – «О Предрассудках», соч. г-на
Пузины, – пришлите – я терпеть не могу предрассудков».
Прочитав,
Адуев хотел отправить туда же и это письмо, но остановился.
«Нет, –
подумал он, – сберегу: есть охотники до таких писем; иные собирают целые
коллекции, – может быть, случится одолжить кого-нибудь».
Он
бросил письмо в бисерную корзинку, висевшую на стене, потом взял третье письмо
и начал читать:
«Любезнейший
мой деверёк Пётр Иваныч!
Помните
ли, как семнадцать годков тому назад мы справляли ваш отъезд? Вот привёл бог
благословить на дальний путь и собственное чадо. Полюбуйтесь, батюшка, на него
да вспомните покойника, нашего голубчика Фёдора Иваныча: ведь Сашенька весь в
него. Бог один знает, что вытерпело моё материнское сердце, отпускаючи его на
чужую сторону. Отправляю его, моего друга, прямо к вам: не велела нигде
приставать, окроме вас…»
Адуев
опять покачал головой.
– Глупая
старуха! – проворчал он и читал:
«Он,
пожалуй, по неопытности, остановился бы на постоялом дворе, но я знаю, как это
может огорчить родного дядю, и внушила взъехать прямо к вам. То-то будет у вас
радости при свидании! Не оставьте его, любезный деверёк, вашими советами и
возьмите на своё попечение; передаю его вам с рук на руки».
Пётр
Иваныч опять остановился.
«Ведь
вы там один у него (читал он потом). Присмотрите за ним, не балуйте уж
слишком-то, да и не взыскивайте очень строго: взыскать-то будет кому, взыщут и
чужие, а приласкать некому, кроме своего; он же сам такой ласковый: вы только
увидите его, так и не отойдёте. И начальнику-то, у которого он будет служить,
скажите, чтоб берёг моего Сашеньку и обращался бы с ним понежнее пуще всего: он
у меня был нежненький. Остерегайте его от вина и от карт. Ночью, – ведь
вы, я чай, в одной комнате будете спать, – Сашенька привык лежать на
спине: от этого, сердечный, больно стонет и мечется; вы тихонько разбудите его
да перекрестите: сейчас и пройдёт, а летом покрывайте ему рот платочком: он его
разевает во сне, а проклятые мухи так туда и лезут под утро. Не оставьте его
также в случае нужды и деньгами…»
Адуев
нахмурился, но вскоре лицо его опять прояснилось, когда он прочёл далее:
«А
я вышлю, что понадобится, да и ему в руки дала теперь тысячу рублей, только
чтоб он не тратил их на пустяки, да чтоб у него подлипалы не выманили, ведь там
у вас, в столице, слышь, много мошенников и всяких бессовестных людей. А затем
простите, дорогой деверь, – совсем отвыкла писать. Остаюсь душевно почитающая
вас невестка
А.
Адуева.
P.
S. Посылаю при этом наших деревенских гостинцев – малинки из своего сада,
белого медку – чистый, как слеза, – полотна голландского на две дюжины рубашек
да домашнего вареньица. Кушайте и носите на здоровье, а выйдут – ещё пришлю.
Присмотрите и за Евсеем; он смирный и не пьющий, да, пожалуй там, в столице,
избалуется, – тогда можно и посечь».
Пётр
Иваныч медленно положил письмо на стол, ещё медленнее достал сигару и, покатав
её в руках, начал курить. Долго обдумывал он эту штуку, как он называл её
мысленно, которую сыграла с ним его невестка. Он строго разобрал в уме и то,
что сделали с ним, и то, что надо было делать ему самому.
Вот на
какие посылки разложил он весь этот случай. Племянника своего он не знает, следовательно
и не любит, а поэтому сердце его не возлагает на него никаких обязанностей:
надо решать дело по законам рассудка и справедливости. Брат его женился, наслаждался
супружеской жизнию, – за что же он, Пётр Иваныч, обременит себя
заботливостию о братнем сыне, он, не наслаждавшийся выгодами супружества? Конечно,
не за что.
Но, с
другой стороны, представлялось вот что: мать отправила сына прямо к нему, на
его руки, не зная, захочет ли он взять на себя эту обузу, даже не зная, жив ли
он и в состоянии ли сделать что-нибудь для племянника. Конечно, это глупо; но
если дело уже сделано и племянник в Петербурге, без помощи, без знакомых, даже
без рекомендательных писем, молодой, без всякой опытности… вправе ли он
оставить его на произвол судьбы, бросить в толпе, без наставлений, без совета,
и если с ним случится что-нибудь недоброе – не будет ли он отвечать перед совестью?..
Тут
кстати Адуев вспомнил, как, семнадцать лет назад, покойный брат и та же Анна Павловна
отправляли его самого. Они, конечно, не могли ничего сделать для него в
Петербурге, он сам нашёл себе дорогу… но он вспомнил её слёзы при прощанье, её
благословения, как матери, её ласки, её пироги и, наконец, её последние слова:
«Вот, когда вырастет Сашенька – тогда ещё трёхлетний ребёнок, – может
быть, и вы, братец, приласкаете его…» Тут Пётр Иваныч встал и скорыми шагами
пошёл в переднюю…
– Василий! –
сказал он, – когда придёт мой племянник, то не отказывай. Да поди узнай, занята
ли здесь вверху комната, что отдавалась недавно, и если не занята, так скажи,
что я оставляю её за собой. А! это гостинцы! Ну что мы станем с ними делать?
– Давеча
наш лавочник видел, как несли их вверх; он спрашивал, не уступим ли ему мёд:
«Я, говорит, хорошую цену дам», и малину берёт…
– Прекрасно!
отдай ему. Ну, а полотно куда девать? разве не годится ли на чехлы?.. Так
спрячь полотно и варенье спрячь – его можно есть: кажется, порядочное.
Только
что Пётр Иваныч расположился бриться, как явился Александр Федорыч. Он было
бросился на шею к дяде, но тот, пожимая мощной рукой его нежную, юношескую
руку, держал его в некотором отдалении от себя, как будто для того, чтобы
наглядеться на него, а более, кажется, затем, чтобы остановить этот порыв и
ограничиться пожатием.
– Мать
твоя правду пишет, – сказал он, – ты живой портрет покойного брата: я
бы узнал тебя на улице. Но ты лучше его. Ну, я без церемонии буду продолжать
бриться, а ты садись вот сюда – напротив, чтобы я мог видеть тебя, и давай
беседовать.
За этим
Пётр Иваныч начал делать своё дело, как будто тут никого не было, и намыливал
щёки, натягивая языком то ту, то другую. Александр был сконфужен этим приёмом и
не знал, как начать разговор. Он приписал холодность дяди тому, что не остановился
прямо у него.
– Ну,
что твоя матушка? здорова ли? Я думаю, постарела? – спросил дядя, делая
разные гримасы перед зеркалом.
– Маменька,
слава богу, здорова, кланяется вам, и тётушка Марья Павловна тоже, –
сказал робко Александр Федорыч. – Тётушка поручила мне обнять вас… –
Он встал и подошёл к дяде, чтоб поцеловать его в щёку, или в голову, или в
плечо, или, наконец, во что удастся.
– Тётушке
твоей пора бы с летами быть умнее, а она, я вижу, всё такая же дура, как была
двадцать лет тому назад…
Озадаченный
Александр задом воротился на своё место.
– Вы
получили, дядюшка, письмо?.. – сказал он.
– Да,
получил.
– Василий
Тихоныч Заезжалов, – начал Александр Федорыч, – убедительно просит
вас справиться и похлопотать о его деле…
– Да,
он пишет ко мне… У вас ещё не перевелись такие ослы?
Александр
не знал, что и подумать – так его сразили эти отзывы.
– Извините,
дядюшка… – начал он почти с трепетом.
– Что?
– Извините,
что я не приехал прямо к вам, а остановился в конторе дилижансов… Я не знал
вашей квартиры…
– В
чём тут извиняться? Ты очень хорошо сделал. Матушка твоя бот знает что
выдумала. Как бы ты ко мне приехал, не знавши, можно ли у меня остановиться,
или нет? Квартира у меня, как видишь, холостая, для одного: зала, гостиная,
столовая, кабинет, ещё рабочий кабинет, гардеробная да туалетная – лишней
комнаты нет. Я бы стеснил тебя, а ты меня… А я нашёл для тебя здесь же в доме
квартиру…
– Ах,
дядюшка! – сказан Александр, – как мне благодарить вас за эту
заботливость?
И он
опять вскочил с места с намерением словом и делом доказать свою
признательность.
– Тише,
тише, не трогай! – заговорил дядя, – бритвы преострые, того и гляди
обрежешься сам и меня обрежешь.
Александр
увидел, что ему, несмотря на все усилия, не удастся в тот день ни разу обнять и
прижать к груди обожаемого дядю, и отложил это намерение до другою раза.
– Комната
превеселенькая, – начал Пётр Иваныч, окнами немного в стену приходится, да
ведь ты не станешь всё у окна сидеть; если дома, так займёшься чем-нибудь, а в
окна зевать некогда. И недорога – сорок рублей в месяц. Для человека есть
передняя. Надо приучаться тебе с самого начала жить одному, без няньки; завести
своё маленькое хозяйство, то есть иметь дома свой стол, чай, словом свой
угол, – un chez soi, как говорят французы. Там ты можешь свободно принимать
кого хочешь… Впрочем, когда я дома обедаю, то милости прошу и тебя, а в другие
дни – здесь молодые люди обыкновенно обедают в трактире, но я советую тебе
посылать за своим обедом: дома и покойнее и не рискуешь столкнуться бог знает с
кем. Так ли?
– Я,
дядюшка, очень благодарен…
– Что
за благодарность? ведь ты мне родня? я исполняю свой долг. Ну, я теперь оденусь
и поеду; у меня и служба и завод…
– Я
не знал, дядюшка, что у вас есть завод.
– Стеклянный
и фарфоровый; впрочем, я не един: нас трое компанионов.
– Хорошо
идёт?
– Да,
порядочно; сбываем больше во внутренние губернии на ярмарки. Последние два года
– хоть куда! Если б ещё этак лет пять, так и того… Один компанион, правда, не
очень надёжен – всё мотает, да я умею держать его в руках. Ну, до свидания. Ты
теперь посмотри город, пофлянируй, пообедай где-нибудь, а вечером приходи ко
мне пить чай, я дома буду, – тогда поговорим. Эй, Василий! ты покажешь им
комнату и поможешь там устроиться.
«Так вот
как здесь, в Петербурге… – думал Александр, сидя в новом свеем
жилище, – если родной дядя так, что ж прочие?..»
Молодой
Адуев ходил взад и вперёд по комнате в сильной задумчивости, а Евсей говорил
сам с собою, убирая комнату:
«Что это
за житьё здесь, – ворчал он, – у Петра Иваныча кухня-то, слышь, раз в
месяц топится, люди-то у чужих обедают… Эко, господи! ну, народец! нечего
сказать, а ещё петербургские называются! У нас и собака каждая из своей плошки
лакает».
Александр,
кажется, разделял мнение Евсея, хотя и молчал. Он подошёл к окну и увидел одни трубы,
да крыши, да чёрные, грязные, кирпичные бока домов… и сравнил с тем, что видел,
назад, тому две недели, из окна своего деревенского дома. Ему стало грустно.
Он вышел
на улицу – суматоха, все бегут куда-то, занятые только собой, едва взглядывая
на проходящих, и то разве для того, чтоб не наткнуться друг на друга. Он
вспомнил про свой губернский город, где каждая встреча, с кем бы то ни было,
почему-нибудь интересна. То вот Иван Иваныч идёт к Петру Петровичу – и все в
городе знают, зачем. То Марья Мартыновна едет от вечерни, то Афанасий Савич на
рыбную ловлю. Там проскакал сломя голову жандарм от губернатора к доктору, и
всякий знает, что её превосходительство изволит родить, хотя по мнению разных кумушек
и бабушек об этом заранее знать не следовало бы. Все спрашивают что: дочку или
сына? Барыни готовят парадные чепцы. Вон Матвей Матвеич вышел из дому, с
толстой палкой, в шестом часу вечера, и всякому известно, что он идёт делать
вечерний моцион, что у него без того желудок не варит и что он остановится непременно
у окна старого советника, который, также известно, пьёт в это время чай. С кем
ни встретишься – поклон да пару слов, а с кем и не кланяешься, так знаешь, кто
он, куда и зачем идёт, и у того в глазах написано: и я знаю, кто вы, куда и
зачем идёте. Если, наконец, встретятся незнакомые, ещё не видавшие друг друга,
то вдруг лица обоих превращаются в знаки вопроса; они остановятся и оборотятся
назад раза два, а пришедши домой, опишут и костюм и походку нового лица, и
пойдут толки и догадки, и кто, и откуда, и зачем. А здесь так взглядом и
сталкивают прочь с дороги, как будто все враги между собою.
Александр
сначала с провинциальным любопытством вглядывался в каждого встречного и
каждого порядочно одетого человека, принимая их то за какого-нибудь министра
или посланника, то за писателя: «Не он ли? – думал он, – не этот ли?»
Но вскоре это надоело ему – министры, писатели, посланники встречались на
каждом шагу.
Он
посмотрел на домы – и ему стало ещё скучнее: на него наводили тоску эти
однообразные каменные громады, которые, как колоссальные гробницы, сплошною
массою тянутся одна за другою. «Вот кончается улица, сейчас будет приволье
глазам, – думал он, – или горка, или зелень, или развалившийся забор», –
нет, опять начинается та же каменная ограда одинаких домов, с четырьмя рядами
окон. И эта улица кончилась, её преграждает опять то же, а там новый порядок
таких же домов. Заглянешь направо, налево – всюду обступили вас, как рать
исполинов, дома, дома и дома, камень и камень, всё одно да одно… нет простора и
выхода взгляду: заперты со всех сторон, – кажется, и мысли и чувства
людские также заперты.
Тяжелы
первые впечатления провинциала в Петербурге. Ему дико, грустно; его никто не
замечает; он потерялся здесь; ни новости, ни разнообразие, ни толпа не
развлекают его. Провинциальный эгоизм его объявляет войну всему, что он видит
здесь и чего не видел у себя. Он задумывается и мысленно переносится в свой
город. Какой отрадный вид! Один дом с остроконечной крышей и с палисадничком из
акаций. На крыше надстройка, приют голубей, – купец Изюмин охотник гонять
их: для этого он взял да и выстроил голубятню на крыше; и по утрам и по
вечерам, в колпаке, в халате, с палкой, к концу которой привязана тряпица,
стоит на крыше и посвистывает, размахивая палкой. Другой дом – точно фонарь: со
всех четырёх сторон весь в окнах и с плоской крышей, дом давней постройки;
кажется, того и гляди, развалится или сгорит от самовозгорения; тёс принял
какой-то светло-серый цвет. Страшно жить в таком доме, но там живут. Хозяин
иногда, правда, посмотрит на скосившийся потолок и покачает головой, примолвив:
«Простоит ли до весны? Авось!» – скажет потом и продолжает жить, опасаясь не за
себя, а за карман. Подле него кокетливо красуется дикенький дом лекаря,
раскинувшийся полукружием, с двумя похожими на будки флигелями, а этот весь
спрятался в зелени; тот обернулся на улицу задом, а тут на две версты тянется
забор, из-за которого выглядывают с деревьев румяные яблоки, искушение мальчишек.
От церквей домы отступили на почтительное расстояние. Кругом их растёт густая
трава, лежат надгробные плиты. Присутственные места – так и видно, что присутственные
места: близко без надобности никто не подходит. А тут, в столице, их и не
отличишь от простых домов, да ещё, срам сказать, и лавочка тут же в доме. А пройдёшь
там, в городе, две, три улицы, уж и чуешь вольный воздух, начинаются плетни, за
ними огороды, а там и чистое поле с яровым. А тишина, а неподвижность, а скука
– и на улице и в людях тот же благодатный застой! И все живут вольно,
нараспашку, никому не тесно; даже куры и петухи свободно расхаживают по улицам,
козы и коровы щиплют траву, ребятишки пускают змей.
А здесь…
какая тоска! И провинциал вздыхает, и по заборе, который напротив его окон, и
по пыльной и грязной улице, и по тряскому мосту, и по вывеске на питейной
конторе. Ему противно сознаться, что Исакиевский собор лучше и выше собора в
его городе, что зала Дворянского собрания больше залы тамошней. Он сердито
молчит при подобных сравнениях, а иногда рискнёт сказать, что такую-то материю
или такое-то вино можно у них достать и лучше и дешевле, а что на заморские
редкости, этих больших раков и раковин, да красных рыбок, там и смотреть не
станут, и что вольно, дескать, вам покупать у иностранцев разные материи да
безделушки; они обдирают вас, а вы и рады быть олухами! Зато, как он вдруг
обрадуется, как посравнит да увидит, что у него в городе лучше икра, груши или
калачи. «Так это-то называется груша у вас? – скажет он, – да у нас
это и люди не станут есть!..»
Ещё
более взгрустнётся провинциалу, как он войдёт в один из этих домов, с письмом
издалека. Он думает, вот отворятся ему широкие объятия, не будут знать, как
принять его, где посадить, как угостить; станут искусно выведывать, какое его
любимое блюдо, как ему станет совестно от этих ласк, как он, под конец, бросит
все церемонии, расцелует хозяина и хозяйку, станет говорить им ты, как
будто двадцать лет знакомы, все подопьют наливочки, может быть, запоют хором
песню…
Куда! на
него едва глядят, морщатся, извиняются занятиями; если есть дело, так назначают
такой час, когда не обедают и не ужинают, а адмиральского часу вовсе не знают –
ни водки, ни закуски. Хозяин пятится от объятий, смотрит на гостя как-то
странно. В соседней комнате звенят ложками, стаканами: тут-то бы и пригласить,
а его искусными намёками стараются выпроводить… Всё назаперти, везде
колокольчики: не мизерно ли это? да какие-то холодные, нелюдимые лица. А там, у
нас, входи смело; если отобедали, так опять для гостя станут обедать; самовар
утром и вечером не сходит со стола, а колокольчиков и в магазинах нет.
Обнимаются, целуются все, и встречный и поперечный. Сосед там – так настоящий
сосед, живут рука в руку, душа в душу; родственник – так родственник: умрёт за
своего… эх, грустно!
Александр
добрался до Адмиралтейской площади и остолбенел. Он с час простоял перед Медным
Всадником, но не с горьким упрёком в душе, как бедный Евгений[4], а с
восторженной думой. Взглянул на Неву, окружающие её здания – и глаза его
засверкали. Он вдруг застыдился своего пристрастия к тряским мостам, палисадникам,
разрушенным заборам. Ему стало весело и легко. И суматоха, и толпа – всё в
глазах его получило другое значение. Замелькали опять надежды, подавленные на
время грустным впечатлением; новая жизнь отверзала ему объятия и манила к чему-то
неизвестному. Сердце его сильно билось. Он мечтал о благородном труде, о
высоких стремлениях и преважно выступал по Невскому проспекту, считая себя
гражданином нового мира… В этих мечтах воротился он домой.
Вечером,
в 11 часов, дядя прислал звать его пить чай.
– Я
только что из театра, – сказал дядя, лёжа на диване.
– Как
жаль, что вы не сказали мне давеча, дядюшка: я бы пошёл вместе с вами.
– Я
был в креслах, куда ж ты, на колени бы ко мне сел? – сказал Пётр
Иваныч, – вот завтра поди себе один.
– Одному
грустно в толпе, дядюшка; не с кем поделиться впечатлением…
– И
незачем! надо уметь и чувствовать и думать, словом жить одному; со временам понадобится.
Да ещё тебе до театра надо одеться прилично.
Александр
посмотрел на своё платье и удивился словам дяди. «Чем же я неприлично
одет? – думал он, – синий сюртук, синие панталоны…»
– У
меня, дядюшка, много платья, – сказал он, – шил Кенигштейн; он у нас
на губернатора работает.
– Нужды
нет, всё-таки оно не годится, на днях я завезу тебя к своему портному; но это пустяки.
Есть о чём важнее поговорить. Скажи-ка, зачем ты сюда приехал?
– Я
приехал… жить.
– Жить?
то есть если ты разумеешь под этим есть, пить и спать, так не стоило труда
ездить так далеко: тебе так не удастся ни поесть, ни поспать здесь, как там, у
себя; а если ты думал что-нибудь другое, так объяснись…
– Пользоваться
жизнию, хотел я сказать, – прибавил Александр, весь покраснев, – мне
в деревне надоело – всё одно и то же…
– А!
вот что! Что ж, ты наймёшь бельэтаж на Невском проспекте, заведёшь карету, составишь
большой круг знакомства, откроешь у себя дни?
– Ведь
это очень дорого, – заметил наивно Александр.
– Мать
пишет, что она дала тебе тысячу рублей: этого мало, – сказал Пётр
Иваныч. – Вот один мой знакомый недавно приехал сюда, ему тоже надоело в
деревне; он хочет пользоваться жизнию, так тот привёз пятьдесят тысяч и
ежегодно будет получать по стольку же. Он точно будет пользоваться жизнию в Петербурге,
а ты – нет! ты не за тем приехал.
– По
словам вашим, дядюшка, выходит, что я как будто сам не знаю, зачем я приехал.
– Почти
так; это лучше сказано: тут есть правда; только всё ещё нехорошо. Неужели ты,
как сбирался сюда, не задал себе этого вопроса: зачем я еду? Это было бы не
лишнее.
– Прежде,
нежели я задал себе этот вопрос, у меня уже был готов ответ! – с гордостию
отвечал Александр.
– Так
что же ты не говоришь? ну, зачем?
– Меня
влекло какое-то неодолимое стремление, жажда благородной деятельности; во мне
кипело желание уяснить и осуществить…
Пётр
Иваныч приподнялся немного с дивана, вынул из рта сигару и навострил уши.
– Осуществить
те надежды, которые толпились…
– Не
пишешь ли ты стихов? – вдруг спросил Пётр Иваныч.
– И
прозой, дядюшка; прикажете принести?
– Нет,
нет!.. после когда-нибудь; я так только спросил.
– А
что?
– Да
ты так говоришь…
– Разве
нехорошо?
– Нет, –
может быть, очень хорошо, да дико.
– У
нас профессор эстетики так говорил и считался самым красноречивым
профессором, – сказал смутившийся Александр.
– О
чём же он так говорил?
– О
своём предмете.
– А!
– Как
же, дядюшка, мне говорить?
– Попроще,
как все, а не как профессор эстетики. Впрочем, этого вдруг растолковать нельзя;
ты после сам увидишь. Ты, кажется, хочешь сказать, сколько я могу припомнить
университетские лекции и перевести твои слова, что ты приехал сюда делать
карьеру и фортуну, – так ли?
– Да,
дядюшка, карьеру…
– И
фортуну, – прибавил Пётр Иваныч, – что за карьера без фортуны? Мысль
хороша – только… напрасно ты приезжал.
– Отчего
же? Надеюсь, вы не по собственному опыту говорите это? – сказал Александр,
глядя вокруг себя.
– Дельно
замечено. Точно, я хорошо обставлен, и дела мои недурны. Но, сколько я посмотрю,
ты и я – большая разница.
– Я
никак не смею сравнивать себя с вами…
– Не
в том дело; ты, может быть, вдесятеро умнее и лучше меня… да у тебя, кажется,
натура не такая, чтоб поддалась новому порядку; а тамошний порядок – ой, ой!
Ты, вон, изнежен и избалован матерью; где тебе выдержать всё, что я выдержал?
Ты, должно быть, мечтатель, а мечтать здесь некогда; подобные нам ездят сюда
дело делать.
– Может
быть, я в состоянии что-нибудь сделать, если вы не оставите меня вашими советами
и опытностью…
– Советовать
– боюсь. Я не ручаюсь за твою деревенскую натуру: выйдет вздор – станешь пенять
на меня; а мнение своё сказать, изволь – не отказываюсь, ты слушай или не
слушай, как хочешь. Да нет! я не надеюсь на удачу. У вас там свой взгляд на
жизнь: как переработаешь его? Вы помешались на любви, на дружбе, да на
прелестях жизни, на счастье; думают, что жизнь только в этом и состоит: ах да
ох! Плачут, хнычут да любезничают, а дела не делают… как я отучу тебя от всего
этого? – мудрёно!
– Я
постараюсь, дядюшка, приноровиться к современным понятиям. Уже сегодня, глядя
на эти огромные здания, на корабли, принёсшие нам дары дальних стран, я подумал
об успехах современного человечества, я понял волнение этой разумно-деятельной
толпы, готов слиться с нею…
Пётр
Иваныч при этом монологе значительно поднял брови и пристально посмотрел на
племянника. Тот остановился.
– Дело,
кажется, простое, – сказал дядя, – а они бог знает что заберут в
голову… «разумно-деятельная толпа»!! Право, лучше бы тебе остаться там. Прожил
бы ты век свой славно: был бы там умнее всех, прослыл бы сочинителем и
красноречивым человеком, верил бы в вечную и неизменную дружбу и любовь, в
родство, счастье, женился бы и незаметно дожил бы до старости и в самом деле
был бы по-своему счастлив; а по-здешнему ты счастлив не будешь: здесь все эти
понятия надо перевернуть вверх дном.
– Как,
дядюшка, разве дружба и любовь – эти священные и высокие чувства, упавшие как
будто ненарочно с неба в земную грязь…
– Что?
Александр
замолчал.
– «Любовь
и дружба в грязь упали»! Ну, как ты этак здесь брякнешь?
– Разве
они не те же и здесь, как там? – хочу я сказать.
– Есть
и здесь любовь и дружба, – где нет этого добра? только не такая, как там,
у вас; со временем увидишь сам… Ты прежде всего забудь эти священные да небесные
чувства, а приглядывайся к делу так, проще, как оно есть, право, лучше, будешь
и говорить проще. Впрочем, это не моё дело. Ты приехал сюда, не ворочаться же
назад: если не найдёшь, чего искал, пеняй на себя. Я предупрежу тебя, что
хорошо, по моему мнению, что дурно, а там, как хочешь… Попробуем, может быть,
удастся что-нибудь из тебя сделать. Да! матушка просила снабжать тебя деньгами…
Знаешь, что я тебе скажу: не проси у меня их: это всегда нарушает доброе
согласие между порядочными людьми. Впрочем, не думай, чтоб я тебе отказывал:
нет, если придётся так, что другого средства не будет, так ты, нечего делать,
обратись ко мне… Всё у дяди лучше взять, чем у чужого, по крайней мере без
процентов. Да чтоб не прибегать к этой крайности, я тебе поскорей найду место,
чтоб ты мог доставать деньги. Ну, до свиданья. Заходи поутру, мы переговорим,
что и как начать.
Александр
Федорыч пошёл домой.
– Послушай,
не хочешь ли ты поужинать? – сказал Пётр Иваныч ему вслед.
– Да,
дядюшка… я бы, пожалуй…
– У
меня ничего нет.
Александр
молчал. «Зачем же это обязательное предложение?» – думал он.
– Стола
я дома не держу, а трактиры теперь заперты, – продолжал дядя. – Вот
тебе и урок на первый случай – привыкай. У вас встают и ложатся по солнцу,
едят, пьют, когда велит природа; холодно, так наденут себе шапку с наушниками,
да и знать ничего не хотят; светло – так день, темно – так ночь. У тебя вон
слипаются глаза, а я ещё за работу сяду: к концу месяца надо счёты свести. Дышите
вы там круглый год свежим воздухом, а здесь и это удовольствие стоит денег – и
всё так! совершенные антиподы! Здесь вот и не ужинают, особенно на свой счёт, и
на мой тоже. Это тебе даже полезно: не станешь стонать и метаться по ночам, а
крестить мне тебя некогда.
– К
этому, дядюшка, легко привыкнуть…
– Хорошо,
если так. А у вас всё ещё по-старому: можно прийти в гости ночью и сейчас ужин
состряпают?
– Что
ж, дядюшка, надеюсь этой черты порицать нельзя. Добродетель русских…
– Полно!
какая тут добродетель. От скуки там всякому мерзавцу рады: «Милости просим,
кушай, сколько хочешь, только займи как-нибудь нашу праздность, помоги убить
время да дай взглянуть на тебя – всё-таки что-нибудь новое; а кушанья не
пожалеем это нам здесь ровно ничего не стоит…» Препротивная добродетель!
Так
Александр лёг спать и старался разгадать, что за человек его дядя. Он припомнил
весь разговор; многого не понял, другому не совсем верил.
«Нехорошо
говорю! – думал он, – любовь и дружба не вечны? не смеётся ли
надо мною дядюшка? Неужели здесь такой порядок? Что же Софье и нравилось во мне
особенно, как не дар слова? А любовь её неужели не вечна?.. И неужели здесь в
самом деле не ужинают?»
Он ещё
долго ворочался в постели: голова, полная тревожных мыслей, и пустой желудок не
давали ему спать.
Прошло
недели две.
Пётр
Иваныч день ото дня становился довольнее своим племянником.
– У
него есть такт, – говорил он одному своему компаниону по заводу, –
чего бы я никак не ожидал от деревенского мальчика. Он не навязывается, не
ходит ко мне без зову; и когда заметит, что он лишний, тотчас уйдёт; и денег не
просит: он малый покойный. Есть странности… лезет целоваться, говорит, как семинарист…
ну, да от этого отвыкнет; и то хорошо, что он не сел мне на шею.
– Есть
состояние? – спросил тот.
– Нет;
каких-нибудь сто душонок.
– Что
ж! если есть способности, так он пойдёт здесь… ведь и вы не с большего начали,
а вот, слава богу…
– Нет!
куда! ничего не сделает. Эта глупая восторженность никуда не годится, ах да ох!
не привыкнет он к здешнему порядку: где ему сделать карьеру! напрасно приезжал…
ну, это уж его дело.
Александр
долгом считал любить дядю, но никак не мог привыкнуть к его характеру и образу
мыслей.
«Дядюшка
у меня, кажется, добрый человек, – писал он в одно утро к Поспелову, –
очень умён, только человек весьма прозаический, вечно в делах, в расчётах… Дух
его будто прикован к земле и никогда не возносится до чистого, изолированного
от земных дрязгов созерцания явлений духовной природы человека. Небо у него
неразрывно связано с землёй, и мы с ним, кажется, никогда совершенно не
сольёмся душами. Едучи сюда, я думал, что он, как дядя, даст мне место в
сердце, согреет меня в здешней холодной толпе горячими объятьями дружбы; а
дружба, ты знаешь, второе провиденье! Но и он есть не что иное, как выражение
этой толпы. Я думал делить с ним вместе время, не расставаться ни на минуту, но
что встретил? – холодные советы, которые он называет дельными; но пусть
они лучше будут недельны, но полны тёплого, сердечного участия. Он горд не
горд, но враг всяких искренних излияний; мы не обедаем, не ужинаем вместе,
никуда не ездим. Приехав, он никогда не расскажет, где был, что делал, и
никогда также не говорит, куда едет и зачем, кто у него знакомые, нравится ему
что, нет ли, как он проводит время. Никогда не сердит особенно, ни ласков, ни
печален, ни весел. Сердцу его чужды все порывы любви, дружбы, все стремления к
прекрасному. Часто говоришь, и говоришь как вдохновенный пророк, почти как наш
великий, незабвенный Иван Семеныч, когда он, помнишь, гремел с кафедры, а мы
трепетали в восторге от его огненного взора и слова; а дядюшка? слушает, подняв
брови, и смотрит престранно, или засмеётся как-то по-своему, таким смехом,
который леденит у меня кровь, – и прощай, вдохновение! Я иногда вижу в нём
как будто пушкинского демона[5]…
Не верит он любви, и проч., говорит, что счастья нет, что его никто и не
обещал, а что есть просто жизнь, разделяющаяся поровну на добро и зло, на
удовольствие, удачу, здоровье, покой, потом на неудовольствие, неудачу,
беспокойство, болезни и проч., что на всё на это надо смотреть просто, не
забирать себе в голову бесполезных – каково? бесполезных! – вопросов о
том, зачем мы созданы да к чему стремимся, – что это не наша забота и что
от этого мы не видим, что у нас под носои, и не делаем своего дела… только и
слышишь о деле! В нём не отличишь, находится ли он под влиянием какого-нибудь
наслаждения или прозаического дела: и за счётами, и в театре, всё одинаков;
сильных впечатлений не знает и, кажется, не любит изящного: оно чуждо душе его;
я думаю, он не читал даже Пушкина…»
Пётр
Иваныч неожиданно явился в комнату племянника и застал его за письмом.
– Я
пришёл посмотреть, как ты тут устроился, – сказал дядя, – и
поговорить о деле.
Александр
вскочил и проворно что-то прикрыл рукой.
– Спрячь,
спрячь свой секрет, – сказал Пётр Иваныч, – я отвернусь. Ну, спрятал?
А это что выпало? что это такое?
– Это,
дядюшка, ничего… – начал было Александр, но смешался и замолчал.
– Кажется,
волосы! Подлинно ничего! уж я видел одно, так покажи и то, что спрятал в руке.
Александр,
точно уличённый школьник, невольно разжал руку и показал кольцо.
– Что
это? откуда? – спросил Пётр Иваныч.
– Это,
дядюшка, вещественные знаки… невещественных отношений…
– Что?
что? дай-ка сюда эти знаки.
– Это
залоги…
– Верно,
из деревни привёз?
– От
Софьи, дядюшка, на память… при прощанье…
– Так
и есть. И это ты вёз за тысячу пятьсот вёрст?
Дядя
покачал головой.
– Лучше
бы ты привёз ещё мешок сушёной малины: ту, по крайней мере, в лавочку сбыли, а
эти залоги…
Он
рассматривал то волосы, то колечко; волосы понюхал, а колечко взвесил на руке.
Потом взял бумажку со стола, завернул в неё оба знака, сжал всё это в
компактный комок и – бац в окно.
– Дядюшка! –
неистово закричал Александр, схватив его за руку, но поздно: комок перелетел
через угол соседней крыши, упал в канал, на край барки с кирпичами, отскочил и
прыгнул в воду.
Александр
молча, с выражением горького упрёка, смотрел на дядю.
– Дядюшка! –
повторил он.
– Что?
– Как
назвать ваш поступок?
– Бросанием
из окна в канал невещественных знаков и всякой дряни и пустяков, чего не нужно
держать в комнате…
– Пустяков!
это пустяки!
– А
ты думал что? – половина твоего сердца… Я пришёл к нему за делом, а он вон
чем занимается – сидит да думает над дрянью!
– Разве
это мешает делу, дядюшка?
– Очень.
Время проходит, а ты до сих пор мне ещё и не помянул о своих намерениях: хочешь
ли ты служить, избрал ли другое занятие – ни слова! а всё оттого, что у тебя
Софья да знаки на уме. Вот ты, кажется, к ней письмо пишешь? Так?
– Да…
я начал было…
– А
к матери писал?
– Нет
ещё, я хотел завтра.
– Отчего
же завтра? К матери завтра, а к Софье, которую через месяц надо забыть, сегодня…
– Софью?
можно ли её забыть?
– Должно.
Не брось я твоих залогов, так, пожалуй, чего доброго, ты помнил бы её лишний
месяц. Я оказал тебе вдвойне услугу. Через несколько лет эти знаки напомнили бы
тебе глупость, от которой бы ты краснел.
– Краснеть
от такого чистого, святого воспоминания? это значит не признавать поэзии…
– Какая
поэзия в том, что глупо? поэзия, например, в письме твоей тётки! жёлтый цветок,
озеро, какая-то тайна… как я стал читать – мне так стало нехорошо, что и
сказать нельзя! чуть не покраснел, а уж я ли не отвык краснеть!
– Это
ужасно, ужасно, дядюшка! стало быть, вы никогда не любили?
– Знаков
терпеть не мог.
– Это
какая-то деревянная жизнь! – сказал в сильном волнении Александр, –
прозябание, а не жизнь! прозябать без вдохновенья, без слёз, без жизни, без
любви[6]…
– И
без волос! – прибавил дядя.
– Как
вы, дядюшка, можете так холодно издеваться над тем, что есть лучшего на земле?
ведь это преступление… Любовь… святые волнения!
– Знаю
я эту святую любовь: в твои лета только увидят локон, башмак, подвязку, дотронутся
до руки – так по всему телу и побежит святая, возвышенная любовь, а дай-ка
волю, так и того… Твоя любовь, к сожалению, спереди; от этого никак не уйдёшь,
а дело уйдёт от тебя, если не станешь им заниматься.
– Да
разве любовь не дело?
– Нет:
приятное развлечение, только не нужно слишком предаваться ему, а то выйдет
вздор. От этого я и боюсь за тебя. – Дядя покачал головой. – Я почти
нашёл тебе место: ты ведь хочешь служить? – сказал он.
– Ах,
дядюшка, как я рад!
Александр
бросился и поцеловал дядю в щёку.
– Нашёл-таки
случай! – сказал дядя, вытирая щеку, – как это я не остерёгся! Ну,
так слушай же. Скажи, что ты знаешь, к чему чувствуешь себя способным.
– Я
знаю богословие, гражданское, уголовное, естественное и народное права, дипломацию,
политическую экономию, философию, эстетику, археологию…
– Постой,
постой! а умеешь ли ты порядочно писать по-русски? Теперь пока это нужнее
всего.
– Какой
вопрос, дядюшка: умею ли писать по-русски! – сказал Александр и побежал к
комоду, из которого начал вынимать разные бумаги, а дядя между тем взял со
стола какое-то письмо и стал читать.
Александр
подошёл с бумагами к столу и увидел, что дядя читает письмо. Бумаги у него
выпали из рук.
– Что
это вы читаете, дядюшка? – сказал он в испуге.
– А
вот тут лежало письмо, к другу, должно быть. Извини, мне хотелось взглянуть,
как ты пишешь.
– И
вы прочитали его?
– Да,
почти – вот только две строки осталось, – сейчас дочитаю; а что? ведь тут
секретов нет, иначе бы оно не валялось так…
– Что
же вы теперь думаете обо мне?
– Думаю,
что ты порядочно пишешь, правильно, гладко…
– Стало
быть, вы не прочли, что тут написано? – с живостью спросил Александр.
– Нет,
кажется, всё, – сказал Пётр Иваныч, поглядев на обе страницы, –
сначала описываешь Петербург, свои впечатления, а потом меня.
– Боже
мой! – воскликнул Александр и закрыл руками лицо.
– Да
что ты? что с тобой?
– И
вы говорите это покойно? вы не сердитесь, не ненавидите меня?
– Нет!
из чего мне бесноваться?
– Повторите,
успокойте меня.
– Нет,
нет, нет.
– Мне
всё не верится; докажите, дядюшка…
– Чем
прикажешь?
– Обнимите
меня.
– Извини,
не могу.
– Почему
же?
– Потому
что в этом поступке разума, то есть смысла, нет, или, говоря словами твоего профессора,
сознание не побуждает меня к этому; вот если б ты был женщина – так другое
дело: там это делается без смысла, по другому побуждению.
– Чувство,
дядюшка, просится наружу, требует порыва, излияния…
– У
меня не просится и не требует, да если б и просилось, так я бы воздержался – и
тебе тоже советую.
– Зачем
же?
– А
затем, чтоб после, когда рассмотришь поближе человека, которого обнял, не
краснеть за свои объятия.
– Разве
не случается, дядюшка, что оттолкнёшь человека и после раскаешься?
– Случается;
оттого я никогда никого и не отталкиваю.
– Вы
и меня не оттолкнёте за мой поступок, не назовёте чудовищем?
– У
тебя кто напишет вздор, тот и чудовище. Этак бы их развелось несметное
множество.
– Но
читать про себя такие горькие истины – и от кого же? от родного племянника!
– Ты
воображаешь, что написал истину?..
– О
дядюшка!.. конечно, я ошибся… я переправлю… простите…
– Хочешь,
я тебе продиктую истину?
– Сделайте
милость.
– Садись
и пиши.
Александр
вынул лист бумаги и взял перо, а Пётр Иваныч, глядя на прочтённое им письмо,
диктовал:
– «Любезный
друг». Написал?
– Написал.
– «Петербурга
и впечатлений своих описывать тебе не стану».
– «Не
стану», – сказал Александр, написав.
«Петербург
уже давно описан, а что не описано, то надо видеть самому; впечатления мои тебе
ни на что не годятся. Нечего по-пустому тратить время и бумагу. Лучше опишу
моего дядю, потому что это относится лично до меня».
– «Дядю», –
сказал Александр.
– Ну,
вот ты пишешь, что я очень добр и умён – может быть, это и правда, может быть,
и нет; возьмём лучше середину, пиши: «Дядя мой не глуп и не зол, мне желает
добра…»
– Дядюшка!
я умею ценить и чувствовать… – сказал Александр и потянулся поцеловать
его.
– «Хотя
и не вешается мне на шею», – продолжал диктовать Пётр Иваныч. Александр,
не дотянувшись до него, поскорей сел на своё место. – А желает добра
потому, что не имеет причины и побуждения желать зла и потому что его просила
обо мне моя матушка, которая делала некогда для него добро. Он говорит, что
меня не любит – и весьма основательно: в две недели нельзя полюбить, и я ещё не
люблю его, хотя и уверяю в противном».
– Как
это можно? – сказал Александр.
– Пиши,
пиши: «Но мы начинаем привыкать друг к другу. Он даже говорит, что можно и
совсем обойтись без любви. Он не сидит со мной, обнявшись, с утра до вечера,
потому что это вовсе не нужно, да ему и некогда». «Враг искренних
излияний», – это можно оставить: это хорошо. Написал?
– Написал.
– Ну,
что у тебя тут ещё? «Прозаический дух, демон…» Пиши.
Пока
Александр писал, Пётр Иваныч взял со стола какую-то бумагу, свернул её, достал
огня и закурил сигару, а бумагу бросил и затоптал.
– «Дядя
мой ни демон, ни ангел, а такой же человек, как и все, – диктовал
он, – только не совсем похож на нас с тобой. Он думает и чувствует
по-земному, полагает, что если мы живём на земле, так и не надо улетать с неё
на небо, где нас теперь пока не спрашивают, а заниматься человеческими делами,
к которым мы призваны. Оттого он вникает во все земные дела и, между прочим, в
жизнь, как она есть, а не как бы нам её хотелось. Верит в добро и вместе в зло,
в прекрасное и прескверное. Любви и дружбе тоже верит, только не думает, что
они упали с неба в грязь, а полагает, что они созданы вместе с людьми и для
людей, что их так и надобно понимать и вообще рассматривать вещи пристально, с
их настоящей стороны, а не заноситься бог знает куда. Между честными людьми он
допускает возможность приязни, которая, от частых сношений и привычки,
обращается в дружбу. Но он полагает также, что в разлуке привычка теряет силу и
люди забывают друг друга и что это вовсе не преступление. Поэтому он уверяет,
что я тебя забуду, а ты меня. Это мне, да и тебе, вероятно, кажется дико, но он
советует привыкнуть к этой мысли, отчего мы оба не будем в дураках. О любви он
того же мнения, с небольшими оттенками: не верит в неизменную и вечную любовь,
как не верит в домовых – и нам не советует верить. Впрочем, об этом он советует
мне думать как можно меньше, а я тебе советую. Это, говорит он, придёт само собою
– без зову; говорит, что жизнь не в одном только этом состоит, что для этого,
как для всего прочего, бывает своё время, а целый век мечтать об одной любви –
глупо. Те, которые ищут её и не могут ни минуты обойтись без неё, – живут
сердцем, и ещё чем-то хуже, на счёт головы. Дядя любит заниматься делом, что
советует и мне, а я тебе: мы принадлежим к обществу, говорит он, которое
нуждается в нас; занимаясь, он не забывает и себя: дело доставляет деньги, а
деньги комфорт, который он очень любит. Притом у него, может быть, есть
намерения, вследствие которых, вероятно, не я буду его наследником. Дядя не
всегда думает о службе да о заводе, он знает наизусть не одного Пушкина…»
– Вы,
дядюшка? – сказал изумлённый Александр.
– Да,
когда-нибудь увидишь. Пиши: «Он читает на двух языках всё, что выходит замечательного
по всем отраслям человеческих знаний, любит искусства, имеет прекрасную
коллекцию картин фламандской школы – это его вкус, часто бывает в театре,
но не суетится, не мечется, не ахает, не охает, думая, что это ребячество, что
надо воздерживать себя, не навязывать никому своих впечатлений, потому, что до
них никому нет надобности. Он также не говорит диким языком, что советует и
мне, а я тебе. Прощай, пиши ко мне пореже и не теряй по-пустому времени. Друг
твой такой-то. Ну, месяц и число».
– Как
можно послать такое письмо? – сказал Александр, – «пиши пореже» –
написать это человеку, который нарочно за сто шестьдесят вёрст приехал, чтобы
сказать последнее прости! «Советую то, другое, третье…» он не глупее меня: он
вышел вторым кандидатом.
– Нужды
нет, ты всё-таки пошли: может быть, он поумнее станет: это наведёт его на разные
новые мысли; хоть вы кончили курс, а школа ваша только что начинается.
– Я
не могу решиться, дядюшка…
– Я
никогда не вмешиваюсь в чужие дела, но ты сам просил что-нибудь для тебя
сделать; я стараюсь навести тебя на настоящую дорогу и облегчить первый шаг, а
ты упрямишься; ну, как хочешь; я говорю только своё мнение, а принуждать не
стану, я тебе не нянька.
– Извините,
дядюшка: я готов повиноваться, – сказал Александр и тотчас запечатал письмо.
Запечатав
одно, он стал искать другое, к Софье. Он поглядел на стол – нет, под столом –
тоже нет, в ящике – не бывало.
– Ты
чего-то ищешь? – сказал дядя.
– Я
ищу другого письма… к Софье.
И дядя
стал искать.
– Где
же оно? – говорил Пётр Иваныч, – я, право, не бросал его за окно…
– Дядюшка!
что вы наделали? ведь вы им закурили сигару! – горестно сказал Александр и
поднял обгорелые остатки письма.
– Не-уже-ли? –
воскликнул дядя, – да как это я? и не заметил; смотри, пожалуй, сжёг такую
драгоценность… А впрочем, знаешь что? оно даже, с одной стороны, хорошо…
– Ах,
дядюшка, ей-богу, ни с какой стороны не хорошо… – заметил Александр в
отчаянии.
– Право,
хорошо: с нынешней почтой ты не успеешь написать к ней, а к будущей уж, верно,
одумаешься, займёшься службой: тебе будет не до того, и, таким образом,
сделаешь одной глупостью меньше.
– Что
ж она подумает обо мне?
– А
что хочет. Да, я думаю, это полезно и ей. Ведь ты не женишься на ней? Она
подумает, что ты её забыл, забудет тебя сама и меньше будет краснеть перед
будущим своим женихом, когда станет уверять его что никого, кроме его, не
любила.
– Вы,
дядюшка, удивительный человек! для вас не существует постоянства, нет святости
обещаний… Жизнь так хороша, так полна прелести, неги: она как гладкое,
прекрасное озеро…
– На
котором растут жёлтые цветы, что ли? – перебил дядя.
– Как
озеро, – продолжал Александр, – она полна чего-то таинственного,
заманчивого, скрывающего в себе так много…
– Тины,
любезный.
– Зачем
же вы, дядюшка, черпаете тину, зачем так разрушаете и уничтожаете все радости,
надежды, блага… смотрите с чёрной стороны?
– Я
смотрю с настоящей – и тебе тоже советую: в дураках не будешь. С твоими
понятиями жизнь хороша там, в провинции, где её не ведают, – там и не люди
живут, а ангелы: вот Заезжалов – святой человек, тётушка твоя – возвышенная,
чувствительная душа, Софья, я думаю, такая же дура, как и тётушка, да ещё…
– Оканчивайте,
дядюшка! – сказал взбешённый Александр.
– Да
ещё такие мечтатели, как ты: водят носом по ветру, не пахнет ли откуда-нибудь
неизменной дружбой да любовью… В сотый раз скажу: напрасно приезжал!
– Станет
она уверять жениха, что никого не любила! – говорил почти сам с собою Александр.
– А
ты всё своё!
– Нет,
я уверен, что она прямо, с благородной откровенностью отдаст ему мои письма и…
– И
знаки, – сказал Пётр Иваныч.
– Да,
и залоги наших отношений… и скажет: «Вот, вот кто первый пробудил струны моего
сердца; вот при чьём имени заиграли они впервые…»
У дяди
начали подниматься брови и расширяться глаза. Александр замолчал.
– Что
ж ты перестал играть на своих струнах? ну, милый, и подлинно глупа твоя Софья,
если сделает такую штуку; надеюсь, у неё есть мать или кто-нибудь, кто бы мог
остановить её?
– Вы,
дядюшка, решаетесь назвать глупостью этот святейший порыв души, это благородное
излияние сердца; как прикажете думать о вас?
– Как
тебе заблагорассудится. Жениха своего она заставит подозревать бог знает что; пожалуй,
ещё и свадьба разойдётся, а отчего? оттого, что вы там рвали вместе жёлтые цветы…
Нет, так дела не делаются. Ну, так ты по-русски писать можешь, – завтра
поедем в департамент: я уж говорил о тебе прежнему своему сослуживцу,
начальнику отделения; он сказал, что есть вакансия; терять времени нечего… Это
что за кипу ты вытащил?
– А
это мои университетские записки. Вот, позвольте прочесть несколько страниц из
лекций Ивана Семеныча, об искусстве в Греции.
Он уж
начал было проворно переворачивать страницы.
– Ох,
сделай милость, уволь! – сказал, сморщившись, Пётр Иваныч. – А это
что?
– А
это мои диссертации. Я желал бы показать их своему начальнику; особенно тут
есть один проект, который я обработал…
– А!
один из тех проектов, которые тысячу лет уже как исполнены или которых нельзя и
не нужно исполнять.
– Что
вы, дядюшка! да этот проект был представлен одному значительному лицу, любителю
просвещения; за это однажды он пригласил меня с ректором обедать. Вот начало
другого проекта.
– Отобедай
у меня дважды, да только не дописывай другого проекта.
– Почему
же?
– Да
так, ты теперь хорошего ничего не напишешь, а время уйдёт.
– Как!
слушавши лекции?..
– Они
пригодятся тебе со временем, а теперь смотри, читай, учись да делай, что
заставят.
– Как
же узнает начальник о моих способностях?
– Мигом
узнает: он мастер узнавать. Да ты какое же место хотел бы занять?
– Я
не знаю, дядюшка, какое бы…
– Есть
места министров, – говорил Пётр Иваныч, – товарищей их, директоров, вице-директоров,
начальников отделений, столоначальников, их помощников, чиновников особых поручений,
мало ли?
Александр
задумался. Он растерялся и не знал, какое выбрать.
– Вот
бы на первый раз место столоначальника хорошо, – сказал он.
– Да,
хорошо! – повторил Пётр Иваныч.
– Я
бы присмотрелся к делу, дядюшка, а там месяца через два можно бы и в начальники
отделения…
Дядя
навострил уши.
– Конечно,
конечно! – сказал он, – потом через три месяца в директоры, ну, а там
через год и в министры: так, что ли?
Александр
покраснел и молчал.
– Начальник
отделения, вероятно, сказал вам, какая есть вакансия? – спросил он потом.
– Нет, –
отвечал дядя, – он не говорил, да мы лучше положимся на него; сами-то,
видишь, затрудняемся в выборе, а он уж знает, куда определить. Ты ему не говори
о своём затруднении насчёт выбора, да и о проектах тоже ни слова: пожалуй, ещё
обидится, что не доверяем ему, да пугнёт порядком: он крутенек. Я бы тебе не
советовал говорить и о вещественных знаках здешним красавицам: они не
поймут этого, где им понять! это для них слишком высоко: и я насилу вникнул, а
они будут гримасничать.
Пока
дядя говорил, Александр ворочал в руке какой-то свёрток.
– Что
это ещё у тебя?
Александр
с нетерпением ждал этого вопроса.
– Это…
я давно хотел вам показать… стихи: вы однажды интересовались…
– Что-то
не помню; кажется, я не интересовался…
– Вот
видите, дядюшка, я думаю, что служба – занятие сухое, в котором не участвует
душа, а душа жаждет выразиться, поделиться с ближними избытком чувств и мыслей,
переполняющих её…
– Ну,
так что же? – с нетерпением спросил дядя.
– Я
чувствую призвание к творчеству…
– То
есть ты хочешь заняться, кроме службы, ещё чем-нибудь – так, что ли, в
переводе? Что ж, очень похвально: чем же? литературой?
– Да,
дядюшка, я хотел просить вас, нет ли у вас случая поместить кое-что…
– Уверен
ли ты, что у тебя есть талант? Без этого ведь ты будешь чернорабочий в
искусстве – что ж хорошего? Талант – другое дело: можно работать; много
хорошего сделаешь, и притом это капитал – стоит твоих ста душ.
– Вы
и это измеряете деньгами?
– А
чем же прикажешь? чем больше тебя читают, тем больше платят денег.
– А
слава, слава? вот истинная награда певца…
– Она
устала нянчиться с певцами: слишком много претендентов. Это прежде, бывало, слава,
как женщина, ухаживала за всяким, а теперь, замечаешь ли? её как будто нет
совсем, или она спряталась – да! Есть известность, а славы что-то не слыхать,
или она придумала другой способ проявляться: кто лучше пишет, тому больше
денег, кто хуже – не прогневайся. Зато нынче порядочный писатель и живёт
порядочно, не мёрзнет и не умирает с голода на чердаке, хоть за ним и не бегают
по улицам и не указывают на него пальцами, как на шута; поняли, что поэт не небожитель,
а человек: так же глядит, ходит, думает и делает глупости, как другие: чего ж
тут смотреть?..
– Как
другие – что вы, дядюшка! как это можно говорить! Поэт заклеймён особенною печатью:
в нём таится присутствие высшей силы…
– Как
иногда в других – и в математике, и в часовщике, и в нашем брате, заводчике. Ньютон,
Гутенберг, Ватт так же были одарены высшей силой, как и Шекспир, Дант и прочие.
Доведи-ка я каким-нибудь процессом нашу парголовскую глину до того, чтобы из
неё выходил фарфор лучше саксонского или севрского, так ты думаешь, что тут не
было бы присутствия высшей силы?
– Вы
смешиваете искусство с ремеслом, дядюшка.
– Боже
сохрани! Искусство само по себе, ремесло само по себе, а творчество может быть
и в том и в другом, также точно, как и не быть. Если нет его, так ремесленник
так и называется ремесленник, а не творец, и поэт без творчества уж не поэт, а
сочинитель… Да разве вам об этом не читали в университете? Чему же вы там
учились?..
Дяде уж
самому стало досадно, что он пустился в такие объяснения о том, что считал общеизвестной
истиной.
«Это
похоже на искренние излияния», – подумал он.
– Покажи-ка,
что там у тебя? – спросил он, – стихотворения?
Дядя
взял свёрток и начал читать первую страницу.
Отколь
порой тоска и горе
Внезапной
тучей налетят
И,
сердце с жизнию поссоря…
– Дай-ка,
Александр, огня.
Он
закурил сигару и продолжал:
В
нём рой желаний заменят?
Зачем
вдруг сумрачным ненастьем
Падёт
на душу тяжкий сон,
Каким
неведомым несчастьем
Её
смутит внезапно он…
– Одно
и то же в первых четырёх стихах сказано, и вышла вода, – заметил Пётр
Иваныч и читал:
Кто
отгадает, отчего
Проступит
хладными слезами
Вдруг
побледневшее чело…
– Как
же это так? Чело пОтом проступает, а слезами – не видывал.
И
что тогда творится с нами?
Небес
далёких тишина
В
тот миг ужасна и страшна…
– Ужасна
и страшна – одно и то же.
Гляжу
на небо: там луна…
– Луна
непременно: без неё никак нельзя! Если у тебя тут есть мечта и дева
– ты погиб: я отступаюсь от тебя.
Гляжу
на небо: там луна
Безмолвно
плавает, сияя,
И
мнится, в ней погребена,
От
века тайна роковая.
– Недурно!
Дай-ка ещё огня… сигара погасла. Где бишь, – да!
В
эфире звёзды, притаясь,
Дрожат
в изменчивом сиянье
И,
будто дружно согласясь,
Хранят
коварное молчанье.
Так
в мире всё грозит бедой,
Всё
зло нам дико предвещает,
Беспечно
будто бы качает
Нас
в нём обманчивый покой;
И
грусти той назва…нья нет…
Дядя
сильно зевнул и продолжал:
Она
пройдёт, умчит и след,
Как
перелётный ветр степей
С
песков сдувает след зверей.
– Ну,
уж «зверей»-то тут куда нехорошо! Зачем же тут черта? А! это было о грусти, а теперь
о радости…
И он
начал скороговоркой читать, почти про себя:[7]
Зато
случается порой
Иной
в нас демон поселится,
Тогда
восторг живой струёй
Насильно
в душу протеснится…
И
затрепещет сладко грудь…
и
т.д.
– Ни
худо, ни хорошо! – сказал он, окончив. – Впрочем, другие начинали и
хуже; попробуй, пиши, занимайся, если есть охота; может быть, и обнаружится
талант; тогда другое дело.
Александр
опечалился. Он ожидал совсем не такого отзыва. Его немного утешало то, что он
считал дядю человеком холодным, почти без души.
– Вот
перевод из Шиллера, – сказал он.
– Довольно;
я вижу; а ты знаешь и языки?
– Я
знаю по-французски, по-немецки и немного по-английски.
– Поздравляю
тебя, давно бы ты сказал: из тебя можно многое сделать. Давеча насказал мне про
политическую экономию, философию, археологию, бог знает про что ещё, а о
главном ни слова – скромность некстати. Я тебе тотчас найду и литературное
занятие.
– Неужели,
дядюшка? вот обяжете! – позвольте вас обнять.
– Погоди,
вот как найду.
– Не
покажете ли вы чего-нибудь из моих сочинений будущему моему начальнику, чтоб
дать понятие?
– Нет,
не нужно; если понадобится, ты и сам покажешь, а может быть, и не понадобится.
Подари-ка ты мне свои проекты и сочинения!..
– Подарить? –
извольте, дядюшка, – сказал Александр, которому польстило это требование
дяди. – Не угодно ли, я вам сделаю оглавление всех статей в
хронологическом порядке?
– Нет,
не нужно… Спасибо за подарок. Евсей! отнеси эти бумаги к Василью.
– Зачем
же к Василью? в ваш кабинет.
– Он
просил у меня бумаги обклеить что-то…
– Как,
дядюшка?.. – в ужасе спросил Александр и схватил кипу назад.
– Ведь
ты подарил, а тебе что за дело, какое употребление я сделаю из твоего
подарка?..
– Вы
не щадите ничего… ничего!.. – с отчаянием стонал он, прижимая бумаги
обеими руками к груди.
– Александр,
послушайся меня, – сказал дядя, вырывая у него бумаги, – не будешь
краснеть после и скажешь мне спасибо.
Александр
выпустил бумаги из рук.
– На,
отнеси, Евсей, – сказал Пётр Иваныч. – Ну, вот теперь у тебя в
комнате чисто и хорошо: пустяков нет; от тебя будет зависеть наполнить её сором
или чем-нибудь дельным. Поедем на завод прогуляться, рассеяться, подышать
свежим воздухом и посмотреть, как работают.
Утром Пётр
Иваныч привёз племянника в департамент, и пока сам он говорил с своим приятелем
– начальником отделения, Александр знакомился с этим новым для него миром. Он
ещё мечтал всё о проектах и ломал себе голову над тем, какой государственный
вопрос предложат ему решить, между тем всё стоял и смотрел.
«Точно
завод моего дяди! – решил он наконец. – Как там один мастер возьмёт
кусок массы, бросит её в машину, повернёт раз, два, три, – смотришь,
выйдет конус, овал или полукруг; потом передаёт другому, тот сушит на огне,
третий золотит, четвёртый расписывает, и выйдет чашка, или ваза, или блюдечко.
И тут. придёт посторонний проситель, подаст, полусогнувшись, с жалкой улыбкой,
бумагу – мастер возьмёт, едва дотронется до неё пером и передаст другому, тот
бросит её в массу тысяч других бумаг, – но она не затеряется: заклеймённая
нумером и числом, она пройдёт невредимо через двадцать рук, плодясь и производя
себе подобных. Третий возьмёт её и полезет зачем-то в шкаф, заглянет или в
книгу, или в другую бумагу, скажет несколько магических слов четвёртому – и тот
пошёл скрипеть пером. Поскрипев, передаёт родительницу с новым чадом пятому –
тот скрипит в свою очередь пером, и рождается ещё плод, пятый охорашивает его и
сдаёт дальше, и так бумага идёт, идёт – никогда не пропадает: умрут её производители,
а она всё существует целые веки. Когда, наконец, её покроет вековая пыль, и
тогда ещё тревожат её и советуются с нею. И каждый день, каждый час, и сегодня
и завтра, и целый век, бюрократическая машина работает стройно, непрерывно, без
отдыха, как будто нет людей, – одни колёса да пружины…
Где же
разум, оживляющий и двигающий эту фабрику бумаг? – думал Александр, –
в книгах ли, в самих ли бумагах, или в головах этих людей?»
И какие
лица увидел он тут! На улице как будто этакие и не встречаются и не выходят на
божий свет: тут, кажется, они родились, выросли, срослись с своими местами, тут
и умрут. Поглядел Адуев пристально на начальника отделения: точно
Юпитер-громовержец; откроет рот – и бежит Меркурий с медной бляхой на груди; протянет
руку с бумагой – и десять рук тянутся принять её.
– Иван
Иваныч! – сказал он.
Иван
Иваныч выскочил из-за стола, подбежал к Юпитеру и стал перед ним как лист перед
травой. И Александр оробел, сам не зная отчего.
– Дайте
табачку!
Тот с
подобострастием поднёс обеими руками открытую табакерку.
– Да
испытайте вот их! – сказал начальник, указывая на Адуева.
«Так вот
кто будет меня испытывать! – думал Адуев, глядя на жёлтую фигуру Ивана Иваныча
с обтёртыми локтями. – Неужели и этот человек решает государственные
вопросы!»
– Хороша
ли у вас рука? – спросил Иван Иваныч.
– Рука?
– Да-с;
почерк. Вот потрудитесь переписать эту бумажку.
Александр
удивился этому требованию, но исполнил его. Иван Иваныч сморщился, поглядев на
его труд.
– Плохо
пишут-с, – сказал он начальнику отделения. Тот поглядел.
– Да,
нехорошо: набело не может писать. Ну, пусть пока переписывает отпуски, а там,
как привыкнет немного, займите его исполнением бумаг; может быть, он годится:
он учился в университете.
Векторе
и Адуев стал одною из пружин машины. Он писал, писал, писал без конца и удивлялся
уже, что по утрам можно делать что-нибудь другое; а когда вспоминая о своих
проектах, краска бросалась ему в лицо.
«Дядюшка! –думал
он, – в одном уж ты прав, немилосердно прав; неужели и во всём так? ужели
я ошибался и в заветных, вдохновенных думах, и в тёплых верованиях в любовь, в
дружбу… и в людей… и в самого себя?.. Что же жизнь?»
Он
наклонялся над бумагой и сильнее скрипел пером, а у самого под ресницами
сверкали слёзы.
– Тебе
решительно улыбается фортуна, – говорил Пётр Иваныч племяннику. – Я
сначала целый год без жалованья служил, а ты вдруг поступил на старший оклад;
ведь это семьсот пятьдесят рублей, а с наградой тысяча будет. Прекрасно на
первый случай! Начальник отделения хвалит тебя; только говорит, что ты рассеян:
то запятых не поставишь, то забудешь написать содержание бумаги. Пожалуйста,
отвыкни: главное дело – обращай внимание на то, что у тебя перед глазами, а не
заносись вон куда.
Дядя
указал рукой кверху. С тех пор он сделался ещё ласковее к племяннику.
– Какой
прекрасный человек мой столоначальник, дядюшка! – сказал однажды
Александр.
– А
ты почём знаешь?
– Мы
сблизились с ним. Такая возвышенная душа, такое честное, благородное
направление мыслей! и с помощником также: это, кажется, человек с твёрдой
волей, с железным характером…
– Уж
ты успел сблизиться с ними?
– Да,
как же!..
– Не
звал ли тебя столоначальник к себе по четвергам?
– Ах,
очень: каждый четверг. Он, кажется, чувствует ко мне особенное влеченье…
– А
помощник просил денег взаймы?
– Да,
дядюшка, безделицу… я ему дал двадцать пять рублей, что со мной было; он просил
ещё пятьдесят.
– Уж
дал! А! – сказал с досадой дядя, – тут отчасти я виноват, что не
предупредил тебя; да я думал, что ты не до такой степени прост, чтоб через две
недели знакомства давать деньги взаймы. Нечего делать, грех пополам, двенадцать
с полтиной считай за мной.
– Как,
дядюшка, ведь он отдаст?
– Держи
карман! Я его знаю: за ним пропадает моих сто рублей с тех пор, как я там служил.
Он у всех берёт. Теперь, если попросит, ты скажи ему, что я прошу его вспомнить
мой должок – отстанет! а к столоначальнику не ходи.
– Отчего
же, дядюшка?
– Он
картёжник. Посадит тебя с двумя такими же молодцами, как сам, а те стакнутся и
оставят тебя без гроша.
– Картёжник! –
говорил в изумлении Александр, – возможно ли? Кажется, так склонен к
искренним излияниям…
– А
ты скажи ему, так, между прочим, в разговоре, что я у тебя взял все деньги на
сохранение, так и увидишь, склонен ли он к искренним излияниям и позовёт ли
когда-нибудь к себе в четверг.
Александр
задумался. Дядя покачал головой.
– А
ты думал, что там около тебя ангелы сидят! Искренние излияния, особенное
влечение! Как, кажется, не подумать о том прежде: не мерзавцы ли
какие-нибудь около? Напрасно ты приезжал! – сказал он, – право,
напрасно!
Однажды
Александр только что проснулся. Евсей подал ему большой пакет, с запиской от
дяди.
«Наконец
вот тебе и литературное занятие, – написано было в записке, – я вчера
виделся с знакомым мне журналистом; он прислал тебе для опыта работу».
От
радости у Александра дрожали руки, когда он распечатывал пакет. Там была
немецкая рукопись.
«Что это
– проза? – сказал он, – о чём же?»
И
прочитал написанное наверху карандашом:
«О
назёме, статья для отдела о сельском хозяйстве. Просят перевести поскорее».
Долго,
задумчивый, сидел он над статьёю, потом медленно, со вздохом, принялся за перо
и начал переводить. Через два дня статья была готова и отослана.
– Прекрасно,
прекрасно! – сказал ему через несколько дней Пётр Иваныч. – Редактор
предоволен, только находит, что стиль не довольно строг; ну, да с первого раза
нельзя же всего требовать. Он хочет познакомиться с тобой. Ступай к нему
завтра, часов в семь вечера: там он уж приготовил ещё статью.
– Опять
о том же, дядюшка?
– Нет,
о чём-то другом; он мне сказывал, да я забыл… ах, да: о картофельной патоке.
Ты, Александр, должно быть, в сорочке родился. Я, наконец, начинаю надеяться,
что из тебя что-нибудь и выйдет: скоро, может быть, не стану говорить тебе,
зачем ты приезжал. Не прошло месяца, а уж со всех сторон так на тебя и льётся.
Там тысяча рублей, да редактор обещал сто рублей в месяц за четыре печатных
листа: это ведь две тысячи двести рублей! Нет, я не так начал! – сказал
он, сдвинув немного брови. – Напиши же к матери, что ты пристроен и каким
образом. Я тоже стану отвечать ей, напишу, что я, за её добро ко мне, сделал
для тебя всё, что мог.
– Маменька
будет вам… очень благодарна, дядюшка, и я тоже… – сказал Александр со
вздохом, но уж не бросился обнимать дядю.
|


