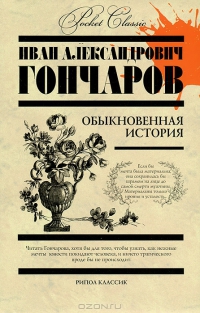
 Увеличить Увеличить |
III
Прошло
более двух лет. Кто бы узнал нашего провинциала в этом молодом человеке с
изящными манерами, в щегольском костюме? Он очень изменился, возмужал. Мягкость
линий юношеского лица, прозрачность и нежность кожи, пушок на подбородке – всё
исчезло. Не стало и робкой застенчивости, и грациозной неловкости движений.
Черты лица созрели и образовали физиономию, а физиономия обозначила характер.
Лилии и розы исчезли, как будто под лёгким загаром. Пушок заменился небольшими
бакенбардами. Лёгкая и шаткая поступь стала ровною и твёрдою походкою. В голосе
прибавилось несколько басовых нот. Из подмалеванной картины вышел оконченный
портрет. Юноша превратился в мужчину. В глазах блистали самоуверенность и
отвага – не та отвага, что слышно за версту, что глядит на всё нагло и ухватками
и взглядами говорит встречному и поперечному: «Смотри, берегись, не задень, не
наступи на ногу, а не то – понимаешь? с нами расправа коротка!» Нет, выражение
той отваги, о которой говорю, не отталкивает, а влечёт к себе. Она узнаётся по
стремлению к добру, к успеху, по желанию уничтожить заграждающие их
препятствия… Прежняя восторженность на лице Александра умерялась лёгким
оттенком задумчивости, первым признаком закравшейся в душу недоверчивости и,
может быть, единственным следствием уроков дяди и беспощадного анализа,
которому тот подвергал всё, что проносилось в глазах и в сердце Александра.
Александр усвоил наконец и такт, то есть уменье обращаться с людьми. Он не
бросался всем на шею, особенно с тех пор, как человек, склонный к искренним
излияниям, несмотря на предостережение дяди, обыграл его два раза, а
человек с твёрдым характером и железной волей перебрал у него немало денег
взаймы. И другие люди и случаи много помогли этому. В одном месте он замечал,
как исподтишка смеялись над его юношескою восторженностью и прозвали
романтиком. В другом – едва обращали на него внимание, потому что от него
никому не было ni chaud, ni froid[8].
Он не давал обедов, не держал экипажа, не играл в большую игру. Прежде у
Александра болело и ныло сердце от этих стычек розовых его мечтаний с
действительностью. Ему не приходило в голову спросить себя: «Да что же я сделал
отличного, чем отличился от толпы? Где мои заслуги и за что должны замечать
меня?» А между тем самолюбие его страдало.
Потом он
стал понемногу допускать мысль, что в жизни, видно, не всё одни розы, а есть и
шипы, которые иногда покалывают, но слегка только, а не так, как рассказывает
дядюшка. И вот он начал учиться владеть собою, не так часто обнаруживал порывы
и волнения и реже говорил диким языком, по крайней мере при посторонних.
Но всё
ещё, к немалому горю Петра Иваныча, он далёко был от холодного разложения на
простые начала всего, что волнует и потрясает душу человека. О приведении же в
ясность всех тайн и загадок сердца он не хотел и слушать.
Пётр
Иваныч даст ему утром порядочный урок, Александр выслушает, смутится или глубоко
задумается, а там поедет куда-нибудь на вечер и воротится сам не свой; дня три
ходит как шальной – и дядина теория пойдёт вся к чёрту. Обаяние и чад бальной
сферы, гром музыки, обнажённые плечи, огонь взоров, улыбка розовых уст не дадут
ему уснуть целую ночь. Ему мерещится то талия, которой он касался руками, то
томный, продолжительный взор, который бросили ему, уезжая, то горячее дыхание,
от которого он таял в вальсе, или разговор вполголоса у окна, под рёв мазурки,
когда взоры так искрились, язык говорил бог знает что. И сердце его билось; он
с судорожным трепетом обнимал подушку и долго ворочался с боку на бок.
«Где же
любовь? О, любви, любви жажду! – говорил он, – и скоро ли придёт она?
когда настанут эти дивные минуты, эти сладостные страдания, трепет блаженства,
слёзы…» – и проч.
На
другой день он являлся к дяде.
– Какой,
дядюшка, вчера был вечер у Зарайских! – говорил он, погружаясь в
воспоминания о бале.
– Хорош?
– О,
дивный!
– Порядочный
ужин был?
– Я
не ужинал.
– Как
так? В твои лета не ужинать, когда можно! Да ты, я вижу, не шутя привыкаешь к
здешнему порядку, даже уж слишком. Что ж, там всё прилично было? туалет,
освещение…
– Да-с.
– И
народ порядочный?
– О
да! очень порядочный. Какие глаза, плечи!
– Плечи?
у кого?
– Ведь
вы про них спрашиваете?
– Про
кого?
– Да
про девиц.
– Нет,
я не спрашивал про них; но всё равно – много было хорошеньких?
– О,
очень… но жаль, что все они очень однообразны. Что одна скажет и сделает в
таком-то случае, смотришь – то же повторит и другая, как будто затверженный
урок. Была одна… не совсем похожа на других… а то не видно ни
самостоятельности, ни характера. И движения, и взгляды – всё одинаково: не услышишь
самородной мысли, ни проблеска чувства… всё покрыл и закрасил одинакий лоск.
Ничто, кажется, не вызовет их наружу. И неужели это век будет заперто и не
обнаружится ни перед кем? Ужели корсет вечно будет подавлять и вздох любви и
вопль растерзанного сердца? неужели не даст простора чувству?..
– Перед
мужем всё обнаружится, а то, если рассуждать по-твоему, вслух, так, пожалуй,
многие и век в девках просидят. Есть дуры, что прежде времени обнаруживают то,
что следовало бы прятать да подавлять, ну, зато после слёзы да слёзы: не
расчёт!
– И
тут расчёт, дядюшка?..
– Как
и везде, мой милый; а кто не рассчитывает, того называют по-русски
безрасчётным, дураком. Коротко и ясно.
– Удерживать
в груди своей благородный порыв чувства!..
– О,
я знаю, ты не станешь удерживать; ты готов на улице, в театре броситься на шею
приятелю и зарыдать.
– Так
что же, дядюшка? Сказали бы только, что это человек с сильными чувствами, что
кто чувствует так, тот способен ко всему прекрасному и благородному и
неспособен…
– Неспособен
рассчитывать, то есть размышлять. Велика фигура – человек с сильными чувствами,
с огромными страстями! Мало ли какие есть темпераменты? Восторги, экзальтация:
тут человек всего менее похож на человека, и хвастаться нечем. Надо спросить,
умеет ли он управлять чувствами; если умеет, то и человек…
– По-вашему,
и чувством надо управлять, как паром, – заметил Александр, – то
выпустить немного, то вдруг остановить, открыть клапан или закрыть…
– Да,
этот клапан недаром природа дала человеку – это рассудок, а ты вот не всегда им
пользуешься – жаль! а малый порядочный!
– Нет,
дядюшка, грустно слушать вас! лучше познакомьте меня с этой приезжей барыней…
– С
которой? с Любецкой? Она была вчера?
– Была,
долго говорила со мной о вас, спрашивала о своём деле.
– Ах,
да! кстати…
Дядя
вынул из ящика бумагу.
– Отвези
ей эту бумагу, скажи, что вчера только, и то насилу, выдали из палаты; объясни
ей хорошенько дело: ведь ты слышал, как мы с чиновником говорили?
– Да,
знаю, знаю; уж я объясню.
Александр
обеими руками схватил бумагу и спрятал в карман. Пётр Иваныч посмотрел на него.
– Да
чего ж тебе вздумалось познакомиться с нею? Она, кажется, неинтересна: с бородавкой
у носа.
– С
бородавкой? Не помню. Как это вы заметили, дядюшка?
– У
носа да не заметить! Что ж тебе хочется к ней?
– Она
такая добрая и почтенная…
– Как
же это ты бородавки у носа не заметил, а уж узнал, что она добрая и почтенная?
это странно. Да позволь… у ней ведь есть дочь – эта маленькая брюнетка. А!
теперь не удивляюсь. Так вот отчего ты не заметил бородавки на носу!
Оба
засмеялись.
– А
я так удивляюсь, дядюшка, – сказал Александр, – что вы прежде
заметили бородавку на носу, чем дочь.
– Подай-ка
назад бумагу. Ты там, пожалуй, выпустишь всё чувство и совсем забудешь закрыть
клапан, наделаешь вздору и чёрт знает что объяснишь…
– Нет,
дядюшка, не наделаю. И бумаги, как хотите, не подам, я сейчас же…
И он
скрылся из комнаты.
А дело
до сих пор шло да шло своим чередом. В службе заметили способности Александра и
дали ему порядочное место. Иван Иваныч и ему с почтением начал подносить свою
табакерку, предчувствуя, что он, подобно множеству других, послужив, как он
говаривал, без году неделю, обгонит его, сядет ему на шею и махнёт в начальники
отделения, а там, чего доброго, и в вице-директоры, как вон тот, или в
директоры, как этот, а начинали свою служебную школу и тот и этот под его
руководством. «А я работай за них!» – прибавил он. В редакции журнала Александр
тоже сделался важным лицом. Он занимался и выбором, и переводом, и поправкою
чужих статей, писал и сам разные теоретические взгляды о сельском хозяйстве.
Денег у него, по его мнению, было больше, нежели сколько нужно, а по мнению
дяди, ещё недовольно. Но не всегда он работал для денег. Он не отказывался от
отрадной мысли о другом, высшем призвании. Юношеских его сил ставало на всё. Он
крал время у сна, у службы и писал и стихи, и повести, и исторические очерки, и
биографии. Дядя уж не обклеивал перегородок его сочинениями, а читал их молча,
потом посвистывал или говорил: «Да! это лучше прежнего». Несколько статей
явилось под чужим именем. Александр с радостным трепетом прислушивался к
одобрительному суду друзей, которых у него было множество и на службе, и по
кондитерским, и в частных домах. Исполнялась его лучшая, после любви, мечта.
Будущность обещала ему много блеску, торжества; его, казалось, ожидал не совсем
обыкновенный жребий, как вдруг…
Мелькнуло
несколько месяцев. Александра стало почти нигде не видно, как будто он пропал.
Дядю он посещал реже. Тот приписывал это его занятиям и не мешал ему. Но
редактор журнала однажды, при встрече с Петром Иванычем, жаловался, что
Александр задерживает статьи. Дядя обещал, при первом случае, объясниться с
племянником. Случай представился дня через три. Александр вбежал утром к дяде
как сумасшедший. В его походке и движениях видна была радостная суетливость.
– Здравствуйте,
дядюшка; ах, как я рад, что вас вижу! – сказал он и хотел обнять его, но
тот успел уйти за стол.
– Здравствуй,
Александр! Что это тебя давно не видно?
– Я…
занят был, дядюшка: делал извлечения из немецких экономистов…
– А!
что ж редактор лжёт? Он третьего дня сказал мне, что ты ничего не делаешь –
прямой журналист! Я ж его, при встрече, отделаю…
– Нет,
вы ему ничего не говорите, – перебил Александр, – я ему ещё не
посылал своей работы, оттого он так и сказал…
– Да
что с тобой? у тебя такое праздничное лицо! Асессора, что ли, тебе дали или
крест?
Александр
мотал головой.
– Ну,
деньги?
– Нет.
– Так
что ж ты таким полководцем смотришь? Если нет, так не мешай мне, а вот лучше
сядь да напиши в Москву, к купцу Дубасову, о скорейшей высылке остальных денег.
Прочти его письмо: где оно? вот.
Оба
замолчали и начали писать.
– Кончил! –
сказал Александр через несколько минут.
– Проворно:
молодец! Покажи-ка. Что это? Ты ко мне пишешь. «Милостивый государь Пётр Иваныч!»
Его зовут Тимофей Никоныч. Как пятьсот двадцать рублей! пять тысяч двести! Что
с тобой, Александр?
Пётр
Иваныч положил перо и поглядел на племянника. Тот покраснел.
– Вы
ничего не замечаете в моём лице? – спросил он.
– Что-то
глуповато… Постой-ка… Ты влюблён? – сказал Пётр Иваныч. Александр молчал.
– Так,
что ли? угадал?
Александр,
с торжественной улыбкой, с сияющим взором, кивнул утвердительно головой.
– Так
и есть! Как это я сразу не догадался? Так вот отчего ты стал лениться, от этого
и не видать тебя нигде. А Зарайские и Скачины пристают ко мне: где да где Александр
Федорыч? он вон где – на седьмом небе!
Пётр
Иваныч стал опять писать.
– В
Наденьку Любецкую! – сказал Александр.
– Я
не спрашивал, – отвечал дядя, – в кого бы ни было – всё одна дурь. В
какую Любецкую? это что с бородавкой?
– Э!
дядюшка! – с досадой перебил Александр, – какая бородавка?
– У
самого носа. Ты всё ещё не разглядел?
– Вы
всё смешиваете. Это, кажется, у матери есть бородавка около носа.
– Ну,
всё равно.
– Всё
равно! Наденька! этот ангел! неужели вы не заметили её? Видеть однажды – и не заметить!
– Да
что ж в ней особенного? Чего ж тут замечать? ведь бородавки, ты говоришь, у ней
нет?..
– Далась
вам эта бородавка! Не грешите, дядюшка: можно ли сказать, что она похожа на
этих светских чопорных марионеток? Вы рассмотрите её лицо: какая тихая, глубокая
дума покоится на нём! Это – не только чувствующая, это мыслящая девушка…
глубокая натура…
Дядя
принялся скрипеть пером по бумаге, а Александр продолжал:
– В
разговоре у ней вы не услышите пошлых общих мест. Каким светлым умом блестят её
суждения! что за огонь в чувствах! как глубоко понимает она жизнь! Вы своим
взглядом отравляете её, а Наденька мирит меня с нею.
Александр
замолчал на минуту и погрузился совсем в мечту о Наденьке. Потом начал опять:
– А
когда она поднимет глаза, вы сейчас увидите, какому пылкому и нежному сердцу служат
они проводником! а голос, голос! что за мелодия, что за нега в нём! Но когда
этот голос прозвучит признанием… нет выше блаженства на земле! Дядюшка! как
прекрасна жизнь! как я счастлив!
У него
выступили слёзы; он бросился и с размаху обнял дядю.
– Александр! –
вскричал, вскочив с места, Пётр Иваныч, – закрой скорей свой клапан – весь
пар выпустил! Ты сумасшедший! смотри, что ты наделал! в одну секунду ровно две
глупости: перемял причёску и закапал письмо. Я думал, ты совсем отстал от своих
привычек. Давно ты не был таким. Посмотри, посмотри, ради бога, на себя в
зеркало: ну, может ли быть глупее физиономия? а неглуп!
– Ха,
ха, ха! я счастлив, дядюшка!
– Это
заметно!
– Не
правда ли? в моём взоре, я знаю, блещет гордость. Я гляжу на толпу, как могут
глядеть только герой, поэт и влюблённый, счастливый взаимною любовью…
– И
как сумасшедшие смотрят или ещё хуже… Ну, что я теперь стану делать с письмом?
– Позвольте,
я соскоблю – и незаметно будет, – сказал Александр. Он бросился к столу с
тем же судорожным трепетом, начал скоблить, чистить, тереть и протёр на письме
скважину. Стол от трения зашатался и толкнул этажерку. На этажерке стоял
бюстик, из итальянского алебастра, Софокла или Эсхила. Почтенный трагик от
сотрясения сначала раза три качнулся на зыбком пьедестале взад и вперёд, потом
свергнулся с этажерки и разбился вдребезги.
– Третья
глупость, Александр! – сказал Пётр Иваныч, поднимая черепки, – а это
пятьдесят рублей стоит.
– Я
запла`чу, дядюшка, о! я запла`чу, но не проклинайте моего порыва: он чист и
благороден: я счастлив, счастлив! Боже! как хороша жизнь!
Дядя
сморщился и покачал головой.
– Когда
ты умнее будешь, Александр? Бог знает что говорит!
Он между
тем с сокрушением смотрел на разбитый бюст.
– «Запла`чу! –
сказал он, – запла`чу». Это будет четвёртая глупость. Тебе, я вижу,
хочется рассказать о своём счастии. Ну, нечего делать. Если уж дяди обречены
принимать участие во всяком вздоре своих племянников, так и быть, я даю тебе
четверть часа: сиди смирно, не сделай какой-нибудь пятой глупости и рассказывай,
а потом, после этой новой глупости, уходи: мне некогда. Ну… ты счастлив… так
что же? рассказывай же поскорее.
– Если
и так, дядюшка, то эти вещи не рассказываются, – с скромной улыбкой
заметил Александр.
– Я
было приготовил тебя, а ты, я вижу, всё-таки хочешь начать с обыкновенных прелюдий.
Это значит, что рассказ продолжится целый час; мне некогда: почта не будет
ждать. Постой, уж я лучше сам расскажу.
– Вы?
вот забавно!
– Ну,
слушай же, очень забавно! Ты вчера виделся с своей красавицей наедине…
– А
вы почему знаете? – с жаром начал Александр, – вы подсылаете смотреть
за мной?
– Как
же, я содержу для тебя шпионов на жалованье. С чего ты взял, что я так забочусь
о тебе? мне что за дело?
Эти
слова сопровождались ледяным взглядом.
– Так
почему же вы знаете? – спросил Александр, подходя к дяде.
– Сиди,
сиди, ради бога, и не подходи к столу: что-нибудь разобьёшь. У тебя на лице всё
написано, я отсюда буду читать. Ну, у вас было объяснение, – сказал он.
Александр
покраснел и молчал. Видно, что дядя опять попал.
– Вы
оба, как водится, были очень глупы, – говорил Пётр Иваныч.
Племянник
сделал нетерпеливое движение.
– Дело
началось с пустяков, когда вы остались одни, с какого-нибудь узора, –
продолжал дядя, – ты спросил, кому она вышивает? она отвечала «маменьке
или тётеньке» или что-нибудь подобное, а сами вы дрожали как в лихорадке…
– А
вот нет, дядюшка, не угадали: не с узора; мы были в саду… – проговорился
Александр и замолчал.
– Ну,
с цветка, что ли, – сказал Пётр Иваныч, – может быть, ещё с жёлтого,
всё равно; тут что попадётся в глаза, лишь бы начать разговор; так-то слова с
языка нейдут. Ты спросил, нравится ли ей цветок; она отвечала да; почему,
дескать? «Так», – сказала она, и замолчали оба, потому что хотели сказать
совсем другое, и разговор не вязался. Потом взглянули друг на друга, улыбнулись
и покраснели.
– Ах,
дядюшка, дядюшка, что вы!.. – говорил Александр в сильном смущении.
– Потом, –
продолжал неумолимый дядя, – ты начал стороной говорить о том, что вот-де
перед тобой открылся новый мир. Она вдруг взглянула на тебя, как будто слушает
неожиданную новость; ты, я думаю, стал в тупик, растерялся, потом опять чуть
внятно сказал, что только теперь ты узнал цену жизни, что и прежде ты видал её…
как её? Марья, что ли?
– Наденька.
– Но
видал как будто во сне, предчувствовал встречу с ней, что вас свела симпатия и
что, дескать, теперь ты посвятишь ей одной всё стихи и прозу… А руками-то, я
думаю, как работал! верно, опрокинул или разбил что-нибудь.
– Дядюшка!
вы подслушали нас! – вскричал вне себя Александр.
– Да,
я там за кустом сидел. Мне ведь только и дела, что бегать за тобой да
подслушивать всякий вздор.
– Почему
же вы всё это знаете? – спросил с недоумением Александр.
– Мудрёно!
с Адама и Евы одна и та же история у всех, с маленькими вариантами. Узнай
характер действующих лиц, узнаешь и варианты. Это удивляет тебя, а ещё
писатель! Вот теперь и будешь прыгать и скакать дня три, как помешанный,
вешаться всем на шею – только, ради бога, не мне. Я тебе советовал бы запереться
на это время в своей комнате, выпустить там весь этот пар и проделать все
проделки с Евсеем, чтобы никто не видал. Потом немного одумаешься, будешь добиваться
уж другого, поцелуя например…
– Поцелуй
Наденьки! о, какая высокая, небесная награда! – почти заревел Александр.
– Небесная!
– Что
же – материальная, земная, по-вашему?
– Без
сомнения, действие электричества; влюблённые – всё равно что две лейденские банки:
оба сильно заряжены; поцелуями электричество разрешается, и когда разрешится
совсем – прости, любовь, следует охлаждение…
– Дядюшка…
– Да!
а ты думал как?
– Какой
взгляд! какие понятия!
– Да,
я забыл: у тебя ещё будут фигурировать «вещественные знаки». Опять нанесёшь всякой
дряни и будешь задумываться да разглядывать, а дело в сторону.
Александр
вдруг схватился за карман.
– Что,
уж есть? будешь делать всё то же, что люди делают с сотворения мира.
– Стало
быть, то же, что и вы делали, дядюшка?
– Да,
только поглупее.
– Поглупее!
Не называете ли вы глупостью то, что я буду любить глубже, сильнее вас, не
издеваться над чувством, не шутить и не играть им холодно, как вы… и не
сдёргивать покрывала с священных тайн…
– Ты
будешь любить, как и другие, ни глубже, ни сильнее; будешь также сдёргивать и покрывало
с тайн… но только ты будешь верить в вечность и неизменность любви, да об одном
этом и думать, а вот это-то и глупо: сам себе готовишь горя более, нежели
сколько бы его должно быть.
– О,
это ужасно, ужасно, что вы говорите, дядюшка! Сколько раз я давал себе слово
таить перед вами то, что происходит в сердце.
– Зачем
же не сдержал? Вот пришёл – помешал мне…
– Но
ведь вы одни у меня, дядюшка, близкие: с кем же мне разделить этот избыток
чувств? а вы без милосердия вонзаете свой анатомический нож в самые тайные
изгибы моего сердца.
– Я
это не для своего удовольствия делаю: ты сам просил моих советов. От скольких
глупостей я остерёг тебя!..
– Нет,
дядюшка, пусть же я буду вечно глуп в ваших глазах, но я не могу существовать с
такими понятиями о жизни, о людях. Это больно, грустно! тогда мне не надо
жизни, я не хочу её при таких условиях – слышите ли? я не хочу.
– Слышу;
да что ж мне делать? ведь не могу же я тебя лишить её.
– Да! –
говорил Александр, – вопреки вашим предсказаниям я буду счастлив, буду
любить вечно и однажды.
– Ох,
нет! Я предчувствую, что ты ещё много кое-чего перебьёшь у меня. Но это бы всё
ничего: любовь любовью; никто не мешает тебе; не нами заведено заниматься
особенно прилежно любовью в твои лета, но, однако ж, не до такой степени, чтобы
бросать дело; любовь любовью, а дело делом…
– Да
я делаю извлечения из немецких…
– Полно,
никаких ты извлечений не делаешь, предаёшься только сладостной неге, а
редактор откажет тебе…
– Пусть
его! я не нуждаюсь. Могу ли я думать теперь о презренной пользе, когда…
– О
презренной пользе! презренная! Ты уж лучше построй в горах хижину, ешь хлеб
с водой и пой:
Мне
хижина убога
С
тобою будет рай… –
но
только как не станет у тебя «презренного металла», у меня не проси – не дам…
– Я,
кажется, не часто беспокоил вас.
– До
сих пор, слава богу, нет, а может случиться, если бросишь дело; любовь тоже
требует денег: тут и лишнее щегольство и разные другие траты… Ох, эта мне
любовь в двадцать лет! вот уж презренная, так презренная, никуда не годится!
– Какая
же, дядюшка, годится? в сорок?
– Я
не знаю, какова любовь в сорок лет, а в тридцать девять…
– Как
ваша?
– Пожалуй,
как моя.
– То
есть никакая.
– Ты
почему знаешь?
– Будто
вы можете любить?
– Почему
же нет? разве я не человек, или разве мне восемьдесят лет? Только если я люблю,
то люблю разумно, помню себя, не бью и не опрокидываю ничего.
– Разумная
любовь! хороша любовь, которая помнит себя! – насмешливо заметил Александр, –
которая ни на минуту не забудется…
– Дикая,
животная, – перебил Пётр Иваныч, – не помнит, а разумная должна
помнить; в противном случае это не любовь…
– А
что же?..
– Так,
гнусность, как ты говоришь.
– Вы…
любите! – говорил Александр, глядя недоверчиво на дядю, – ха, ха, ха!
Пётр
Иваныч молча писал.
– Кого
же, дядюшка? – спросил Александр.
– Тебе
хочется знать?
– Хотелось
бы.
– Свою
невесту.
– Не…
невесту! – едва выговорил Александр, вскочив с места и подходя к дяде.
– Не
близко, не близко, Александр, закрой клапан! – заговорил Пётр Иваныч,
увидя, какие большие глаза сделал племянник, и проворно придвинул к себе разные
мелкие вещицы, бюстики, фигурки, часы и чернильницу.
– Стало
быть, вы женитесь? – спросил Александр с тем же изумлением.
– Стало
быть.
– И
вы так покойны! пишете в Москву письма, разговариваете о посторонних предметах,
ездите на завод и ещё так адски холодно рассуждаете о любви!
– Адски
холодно – это ново! в аду, говорят, жарко. Да что ты на меня смотришь так дико?
– Вы
– женитесь!
– Что
ж тут удивительного? – спросил Пётр Иваныч, положив перо.
– Как
что? женитесь – и ни слова мне!
– Извини,
я забыл попросить у тебя позволения.
– Не
просить позволения, дядюшка, а надо же мне знать. Родной дядя женится, а я
ничего не знаю, мне и не сказали!..
– Вот
ведь сказал.
– Сказали,
потому что кстати пришлось.
– Я
стараюсь, по возможности, всё делать кстати.
– Нет,
чтоб первому мне сообщить вашу радость: вы знаете, как я люблю вас и как разделю…
– Я
вообще избегаю дележа, а в женитьбе и подавно.
– Знаете
что, дядюшка? – сказал Александр с живостью, – может быть… нет, не
могу таиться перед вами… Я не таков, всё выскажу…
– Ох,
Александр, некогда мне; если новая история, так нельзя ли завтра?
– Я
хочу только сказать, что, может быть… и я близок к тому же счастью…
– Что, –
спросил Пётр Иваныч, слегка навострив уши, – это что-то любопытно…
– А!
любопытно? так и я помучаю вас: не скажу.
Пётр
Иваныч равнодушно взял пакет, вложил туда письмо и начал запечатывать.
– И
я, может быть, женюсь! – сказал Александр на ухо дяде.
Пётр
Иваныч не допечатал письма и поглядел на него очень серьёзно.
– Закрой
клапан, Александр! – сказал он.
– Шутите,
шутите, дядюшка, а я говорю не шутя. Попрошу у маменьки позволения.
– Тебе
жениться!
– А
что же?
– В
твои лета!
– Мне
двадцать три года.
– Пора!
В эти лета женятся только мужики, когда им нужна работница в доме.
– Но
если я влюблён в девушку и есть возможность жениться, так, по-вашему, не нужно…
– Я
тебе никак не советую жениться на женщине, в которую ты влюблён.
– Как,
дядюшка? это новое; я никогда не слыхал.
– Мало
ли ты чего не слыхал!
– Я
думал всё, что супружества без любви не должно быть.
– Супружество
супружеством, а любовь любовью, – сказал Пётр Иваныч.
– Как
же жениться… по расчёту?
– С
расчётом, а не по расчёту. Только расчёт этот должен состоять не в одних
деньгах. Мужчина так создан, чтоб жить в обществе женщины; ты и станешь
рассчитывать, как бы жениться, станешь искать, выбирать между женщинами…
– Искать,
выбирать! – с изумлением сказал Александр.
– Да,
выбирать. Поэтому-то и не советую жениться, когда влюбишься. Ведь любовь пройдёт
– это уж пошлая истина.
– Это
самая грубая ложь и клевета.
– Ну,
теперь тебя не убедишь; увидишь сам со временем, а теперь запомни мои слова только:
любовь пройдёт, повторяю я, и тогда женщина, которая казалась тебе идеалом
совершенства, может быть, покажется очень несовершенною, а делать будет нечего.
Любовь заслонит от тебя недостаток качеств, нужных для жены. Тогда как,
выбирая, ты хладнокровно рассудишь, имеет ли такая-то или такая женщина
качества, какие хочешь видеть в жене: вот в чём главный расчёт. И если отыщешь
такую женщину, она непременно должна нравиться тебе постоянно, потому что
отвечает твоим желаниям. Из этого возникнут между ею и тобою близкие отношения,
которые потом образуют…
– Любовь? –
спросил Александр.
– Да…
привычку.
– Жениться
без увлечения, без поэзии любви, без страсти, рассуждать, как и зачем!!
– А
ты женился бы, не рассуждая и не спрашивая себя: зачем? так точно, как,
поехавши сюда, тоже не спросил себя: зачем?
– Так
вы женитесь по расчёту? – спросил Александр.
– С
расчётом, – заметил Пётр Иваныч.
– Это
всё равно.
– Нет,
по расчёту значит жениться для денег – это низко; но жениться без расчёта – это
глупо!.. а тебе теперь вовсе не следует жениться.
– Когда
же жениться? Когда состареюсь? Зачем я буду следовать нелепым примерам.
– В
том числе и моему? спасибо!
– Я
не про вас говорю, дядюшка, а про всех вообще. Услышишь о свадьбе, пойдёшь посмотреть
– и что же? видишь прекрасное, нежное существо, почти ребёнка, которое ожидало
только волшебного прикосновения любви, чтобы развернуться в пышный цветок, и
вдруг её отрывают от кукол, от няни, от детских игр, от танцев, и слава богу,
если только от этого, а часто не заглянут в её сердце, которое, может быть, не
принадлежит уже ей. Её одевают в газ, в блонды, убирают цветами и, несмотря на
слёзы, на бледность, влекут, как жертву, и ставят – подле кого же? подле пожилого
человека, по большей части некрасивого, который уж утратил блеск молодости. Он
или бросает на неё взоры оскорбительных желаний, или холодно осматривает её с
головы до ног, а сам думает, кажется: «Хороша ты, да, чай, с блажью в голове:
любовь да розы, – я уйму эту дурь, это – глупости! у меня полно вздыхать
да мечтать, а веди себя пристойно», или ещё хуже – мечтает об её имении. Самому
молодому мало-мало тридцать лет. Он часто с лысиною, правда с крестом, или
иногда со звездой. И говорят ей: «Вот кому обречены все сокровища твоей юности,
ему и первое биение сердца, и признание, и взгляды, и речи, и девственные
ласки, и вся жизнь». А кругом толпой теснятся те, кто, по молодости и красоте,
под пару ей и кому бы надо было стать рядом с невестой. Они пожирают взглядами
бедную жертву и как будто говорят: «Вот, когда мы истощим свежесть, здоровье,
оплешивеем, и мы женимся, и нам достанется такой же пышный цветок…» Ужасно!..
– Дико,
нехорошо, Александр! пишешь ты уж два года, – сказал Пётр Иваныч, – и
о назёме, и о картофеле, и о других серьёзных предметах, где стиль строгий,
сжатый, а всё ещё дико говоришь. Ради бога, не предавайся экстазу, или, по
крайней мере, как эта дурь найдёт на тебя, так уж молчи, дай ей пройти, путного
ничего не скажешь и не сделаешь: выйдет непременно нелепость.
– Как,
дядюшка, а разве не в экстазе родится мысль поэта?
– Я
не знаю, как она родится, а знаю, что выходит совсем готовая из головы, то есть
когда обработается размышлением: тогда только она и хороша. Ну, а
по-твоему, – начал, помолчав, Пётр Иваныч, – за кого же бы выдавать
эти прекрасные существа?
– За
тех, кого они любят, кто ещё не утратил блеска юношеской красоты, в ком и в
голове и в сердце – всюду заметно присутствие жизни, в глазах не угас ещё
блеск, на щеках не остыл румянец, не пропала свежесть – признаки здоровья; кто
бы не истощённой рукой повёл по пути жизни прекрасную подругу, а принёс бы ей в
дар сердце, полное любви к ней, способное понять и разделить её чувства, когда
права природы…
– Довольно!
то есть за таких молодцов, как ты. Если б мы жили среди полей и лесов дремучих
– так, а то жени вот этакого молодца, как ты, – много будет проку! в
первый год с ума сойдёт, а там и пойдёт заглядывать за кулисы, или даст в
соперницы жене её же горничную, потому что права-то природы, о которых ты
толкуешь, требуют перемены, новостей – славный порядок! а там и жена, заметив
мужнины проказы, полюбит вдруг каски, наряды да маскарады и сделает тебе того…
а без состояния так ещё хуже! есть, говорит, нечего!
Пётр
Иваныч сделал кислую мину.
– «Я,
говорит, женат, – продолжал он, – у меня, говорит, уж трое детей,
помогите, не могу прокормиться, я беден…» беден! какая мерзость! нет, я
надеюсь, что ты не попадёшь ни в ту, ни в другую категорию.
– Я
попаду в категорию счастливых мужей, дядюшка, а Наденька – счастливых жён. Не хочу
жениться, как женится большая часть: наладили одну песню: «Молодость прошла,
одиночество наскучило, так надо жениться!» Я не таков!
– Бредишь,
милый.
– Да
почему вы знаете?
– Потому
что ты такой же человек, как другие, а других я давно знаю. Ну, скажи-ка ты, зачем
женишься?
– Как
зачем! Наденька – жена моя! – воскликнул Александр, закрыв лицо руками.
– Ну
что? видишь – и сам не знаешь.
– У!
дух замирает от одной мысли. Вы не знаете, как я люблю её, дядюшка! я люблю,
как никогда никто не любил: всеми силами души – ей всё…
– Лучше
бы ты, Александр, выбранил или, уж так и быть, обнял меня, чем повторять эту
глупейшую фразу! Как это у тебя язык поворотился? «как никогда никто не любил!»
Пётр
Иваныч пожал плечами.
– Что
ж, разве это не может быть?
– Впрочем,
точно, глядя на твою любовь, я думаю, что это даже возможно: глупее любить
нельзя!
– Но
она говорит, что надо ждать год, что мы молоды, должны испытать себя… целый
год… и тогда…
– Год!
а! давно бы ты сказал! – перебил Пётр Иваныч, – это она предложила?
Какая же она умница! Сколько ей лет?
– Восьмнадцать.
– А
тебе – двадцать три: ну, брат, она в двадцать три раза умнее тебя. Она, как я
вижу, понимает дело: с тобою она пошалит, пококетничает, время проведёт весело,
а там… есть между этими девчонками преумные! Ну, так ты не женишься. Я думал,
ты хочешь это как-нибудь поскорее повернуть, да тайком. В твои лета эти
глупости так проворно делаются, что не успеешь и помешать; а то через год! до
тех пор она ещё надует тебя…
– Она
– надует, кокетничает! девчонка! она, Наденька! фи, дядюшка! С кем вы жили всю
жизнь, с кем имели дела, кого любили, если у вас такие чёрные подозрения?..
– Жил
с людьми, любил женщину.
– Она
обманет! Этот ангел, эта олицетворённая искренность, женщина, какую, кажется,
бог впервые создал во всей чистоте и блеске…
– А
всё-таки женщина, и, вероятно, обманет.
– Вы
после этого скажете, что и я надую?
– Со
временем – да, и ты.
– Я!
про тех, кого вы не знаете, вы можете заключать, что угодно; но меня – не грех
ли вам подозревать в такой гнусности? Кто же я в ваших глазах?
– Человек.
– Не
все одинаковы. Знайте же, что я, не шутя, искренно дал ей обещание любить всю
жизнь; я готов подтвердить это клятвой…
– Знаю,
знаю! Порядочный человек не сомневается в искренности клятвы, когда даёт её
женщине, а потом изменит или охладеет, и сам не знает как. Это делается не с
намерением, и туг никакой гнусности нет, некого винить: природа вечно любить не
позволила. И верующие в вечную и неизменную любовь делают то же самое, что и
неверующие, только не замечают или не хотят сознаться; мы, дескать, выше этого,
не люди, а ангелы – глупость!
– Как
же есть любовники-супруги, которые вечно любят друг друга и всю жизнь живут?..
– Вечно!
кто две недели любит, того называют ветреником, а два, три года – так уж и вечно!
Разбери-ка, как любовь создана, и сам увидишь, что она не вечна! Живость,
пылкость и лихорадочность этого чувства не дают ему быть продолжительным.
Любовники-супруги живут всю жизнь вместе – правда! да разве любят всю жизнь
друг друга? будто их всегда связывает первоначальная любовь? будто они
ежеминутно ищут друг друга, глядят и не наглядятся? Куда под конец денутся
мелочные угождения, беспрестанная внимательность, жажда быть вместе, слёзы,
восторги – все эти вздоры? Холодность и неповоротливость мужей вошла в
пословицу. «Их любовь обращается в дружбу!» – говорят все важно: так вот уж и
не любовь! Дружбу! А что это за дружба? Мужа с женой связывают общие интересы,
обстоятельства, одна судьба, – вот и живут вместе; а нет этого, так и расходятся,
любят других, – иной прежде, другой после: это называется изменой!.. А
живучи вместе, живут потом привычкой, которая, скажу тебе на ухо, сильнее всякой
любви: недаром называют её второй натурой; иначе бы люди не перестали терзаться
всю жизнь в разлуке или по смерти любимого предмета, а ведь утешаются. А то
наладили: вечно, вечно!.. не разберут, да и кричат.
– Как
же вы, дядюшка, не опасаетесь за себя? Стало быть, и ваша невеста… извините…
надует вас?..
– Не
думаю.
– Какое
самолюбие!
– Это
не самолюбие, а расчёт.
– Опять
расчёт!
– Ну,
размышление, если хочешь.
– А
если она влюбится в кого-нибудь?
– До
этого не надо допускать; а если б и случился такой грех, так можно поискуснее
расхолодить.
– Будто
это можно? разве в вашей власти…
– Весьма.
– Этак
бы делали все обманутые мужья, – сказал Александр, – если б был
способ…
– Не
все мужья одинаковы, мой милый: одни очень равнодушны к своим жёнам, не обращают
внимания на то, что делается вокруг них, и не хотят заметить; другие из
самолюбия и хотели бы, да плохи: не умеют взяться за дело.
– Как
же вы сделаете?
– Это
мой секрет; тебе не втолкуешь: ты в горячке.
– Я
счастлив теперь и благодарю бога; а о том, что будет впереди, и знать не хочу.
– Первая
половина твоей фразы так умна, что хоть бы не влюблённому её сказать: она показывает
уменье пользоваться настоящим; а вторая, извини, никуда не годится. «Не хочу
знать, что будет впереди», то есть не хочу думать о том, что было вчера и что
есть сегодня; не стану ни соображать, ни размышлять, не приготовлюсь к тому, не
остерегусь этого, так, куда ветер подует! Помилуй, на что это похоже?
– А
по-вашему, как же, дядюшка? Настанет миг блаженства, надо взять увеличительное
стекло, да и рассматривать…
– Нет,
уменьшительное, чтоб с радости не одуреть вдруг, не вешаться всем на шею.
– Или
придёт минута грусти, – продолжал Александр, – так её рассматривать в
ваше уменьшительное стекло?
– Нет,
грусть в увеличительное: легче перенесть, когда вообразишь неприятность вдвое
больше, нежели она есть.
– Зачем
же, – продолжал Александр с досадой, – я буду убивать вначале всякую
радость холодным размышлением, не упившись ею, думать: вот она изменит,
пройдёт? зачем буду терзаться заранее горем, когда оно не настало?
– А
зато, когда настанет, – перебил дядя, – так подумаешь – и горе пройдёт,
как проходило тогда-то и тогда-то, и со мной, и с тем, и с другим. Надеюсь, это
не дурно и стоит обратить на это внимание; тогда и терзаться не станешь, когда
разглядишь переменчивость всех шансов в жизни; будешь хладнокровен и покоен,
сколько может быть покоен человек.
– Так
вот где тайна вашего спокойствия! – задумчиво сказал Александр.
Пётр
Иваныч молчал и писал.
– Но
что ж за жизнь! – начал Александр, – не забыться, а всё думать,
думать… нет, я чувствую, что это не так! Я хочу жить без вашего холодного
анализа, не думая о том, ожидает ли меня впереди беда, опасность, или нет – всё
равно!.. Зачем я буду думать заранее и отравлять…
– Ведь
я говорю зачем, а он всё своё! не заставь меня сделать на твой счёт
какого-нибудь обидного сравнения. Затем, что когда предвидишь опасность,
препятствие, беду, так легче бороться с ней или перенести её: ни с ума не
сойдёшь, ни умрёшь; а когда придёт радость, так не будешь скакать и
опрокидывать бюстов – ясно ли? Ему говорят: вот начало, смотри же, соображай по
этому конец, а он закрывает глаза, мотает головой, как при виде пугала
какого-нибудь, и живёт по-детски. По-твоему, живи день за днём, как живётся,
сиди у порога своей хижины, измеряй жизнь обедами, танцами, любовью да
неизменной дружбой. Всё хотят золотого века! Уж я сказал тебе, что с твоими
идеями хорошо сидеть в деревне, с бабой да полдюжиной ребят, а здесь надо дело
делать; для этого беспрестанно надо думать и помнить, что делал вчера, что делаешь
сегодня, чтобы знать, что нужно делать завтра, то есть жить с беспрерывной
поверкой себя и своих занятий. С этим дойдём до чего-нибудь дельного; а так… Да
что с тобою толковать: ты теперь в бреду. Ай! скоро час. Ни слова больше,
Александр; уходи… и слушать не стану; завтра обедай у меня, кое-кто будет.
– Не
друзья ли ваши?
– Да…
Конев, Смирнов, Фёдоров, – ты их знаешь, и ещё кое-кто…
– Конев,
Смирнов, Фёдоров! да это те самые люди, с которыми вы имеете дела.
– Ну
да; всё нужные люди.
– Так
это у вас друзья? В самом деле не видывал, чтоб вы кого-нибудь принимали с особенною
горячностью.
– Я
уж тебе сказывал, что друзьями я называю тех, с кем чаще вижусь, которые
доставляют мне или пользу или удовольствие. Помилуй! что ж даром-то кормить?
– А
я думал, вы прощаетесь перед свадьбой с истинными друзьями, которых душевно любите,
с которыми за чашей помянете в последний раз весёлую юность и, может быть, при
разлуке крепко прижмёте их к сердцу.
– Ну,
в твоих пяти словах всё есть, чего в жизни не бывает или не должно быть. С
каким восторгом твоя тётка бросилась бы тебе на шею! В самом деле, тут и истинные
друзья, тогда как есть просто друзья, и чаша, тогда как пьют из
бокалов или стаканов, и объятия при разлуке, когда нет разлуки. Ох,
Александр!
– И
вам не жаль расставаться или, по крайней мере, реже видеться с этими
друзьями? – сказал Александр.
– Нет!
я никогда не сближался ни с кем до такой степени, чтоб жалеть, и тебе то же советую.
– Но,
может быть, они не таковы: им, может быть, жаль потерять в вас доброго
товарища, собеседника?
– Это
уж не моё, а их дело. Я тоже не раз терял таких товарищей, да вот не умер от
того. Так ты будешь завтра?
– Завтра,
дядюшка, я…
– Что?
– Отозван
на дачу.
– Верно,
к Любецким?
– Да.
– Так!
Ну, как хочешь. Помни о деле, Александр: я скажу редактору, чем ты занимаешься…
– Ах,
дядюшка, как можно! Я непременно докончу извлечения из немецких экономистов…
– Да
ты прежде начни их. Смотри же помни, презренного металла не проси, как
скоро совсем предашься сладостной неге.
|


