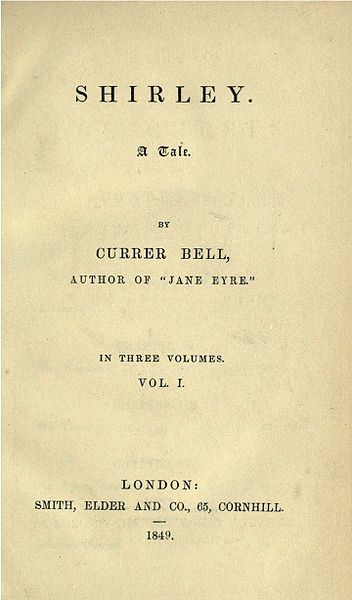
 Увеличить Увеличить |
ГЛАВА I
Левиты[1]
За
последние годы на севере Англии появилось великое множество младших
священников; особенно посчастливилось нашей гористой местности: теперь почти у
каждого приходского священника есть один помощник, а то и больше. Надо
полагать, что они сделают немало добра, ибо они молоды и энергичны. Но мы
собираемся вести повествование не о последних годах, мы обратимся к началу
нашего столетия; последние годы подернуты серым налетом, выжжены солнцем и
бесплодны; забудем же о знойном полудне, погрузимся в сладостное забытье, в легкую
дремоту и в сновидениях увидим рассвет.
Читатель,
если по этому вступлению ты предполагаешь, что перед тобой развернется романтическое
повествование, – ты ошибаешься. Ты ждешь поэзии и лирических раздумий? Мелодрамы,
пылких чувств и сильных страстей? Не рассчитывай увидеть так много, тебе
придется довольствоваться кое-чем более скромным. Перед тобой предстанет
простая будничная жизнь во всей ее неприкрашенной правде, нечто столь же
далекое от романтики, как понедельник, когда труженик просыпается с мыслью, что
нужно скорее вставать и приниматься за работу. Возможно, в середине или в конце
обеда тебе подадут что-нибудь повкуснее, но первое блюдо будет настолько
постным, что и католик – и даже англо-католик[2]
– не согрешил бы, отведав его в страстную пятницу: холодная чечевица с уксусом
без масла, пресный хлеб с горькими травами и ни куска жареной баранины.
Итак, за
последние годы север Англии наводнили младшие священники, но в тысяча восемьсот
одиннадцатом или двенадцатом году такого наплыва не было: младших священников
тогда насчитывалось немного; не было еще ни приходской кассы вспомоществования,
ни благотворительных обществ, способных позаботиться об одряхлевших приходских
священниках и предоставить им возможность нанять молодого деятельного собрата,
только что окончившего Оксфорд или Кембридж. Нынешних преемников апостолов,
учеников доктора Пьюзи[3]
и членов коллегии миссионеров, в те дни еще пестовали под теплыми одеяльцами и
няни подвергали их животворному обряду омовения в умывальном тазу. Увидев их
тогда, вы не подумали бы, что накрахмаленная пышная оборка чепчика обрамляет
чело будущего носителя духовного сана, предопределенного свыше преемника св.
Павла, св. Петра или св. Иоанна. И вы бы, уж конечно, не разглядели в складках
их детских ночных рубашонок белый стихарь, в котором им предстояло впоследствии
сурово наставлять своих прихожан и повергать в полное изумление старомодного
священника, – этот стихарь так бурно колыхался теперь над кафедрой, тогда
как прежде он лишь чуть шевелился внизу.
Однако и
в те скудные времена помощники священников все же существовали, но лишь
кое-где, как редкостные растения. Впрочем, один благословенный округ
Йоркширского графства мог похвастать тремя такими жезлами Аарона,[4] которые цвели
пышным цветом на небольшой площади в каких-нибудь двадцать квадратных миль.
Сейчас ты их увидишь, читатель. Войди в уютный домик на окраине города Уинбери
и загляни в маленькую комнатку, вот они обедают. Позволь тебе их представить:
мистер Донн, помощник священника из Уинбери; мистер Мелоун, помощник священника
Брайерфилда; мистер Суитинг, помощник священника из Наннли. Владелец этого домика
– некий Джон Гейл, небогатый суконщик, у которого квартирует мистер Донн,
любезно пригласивший сегодня своих собратьев отобедать у него. Подсядем к ним и
мы, посмотрим на них, послушаем их беседу. Сейчас они поглощены обедом; а мы
тем временем немного посудачим.
Джентльмены
эти в расцвете молодости; от них веет силой этого счастливого возраста, силой,
которую старые унылые священники пытаются направить на стезю христианского
долга, убеждая своих молодых помощников почаще навещать больных и усердно
надзирать за приходскими школами. Но молодым левитам такие скучные дела не по
душе: они предпочитают расточать свою кипучую энергию в особой
деятельности, – казалось бы, столь же утомительно однообразной, как труд
ткача, но доставляющей им немало радости, немало приятных минут. Я имею в виду
их непрерывное хождение в гости друг к другу, какой-то замкнутый круг или,
вернее, треугольник визитов, в любое время года: и зимой, и весной, и летом, и
осенью. Во всякую погоду, не страшась ни снега, ни града, ни ветра, ни дождя,
ни слякоти, ни пыли, они с непостижимым рвением ходят один к другому то
пообедать, то выпить чаю, то поужинать. Что влечет их друг к другу, трудно
сказать; во всяком случае не дружеские чувства – их встречи обычно кончаются
ссорой; не религия – о ней они никогда не говорят; вопросы богословия еще
изредка занимают их умы, но они никогда не касаются благочестия; и не
чревоугодие – каждый из них и у себя дома мог бы съесть столь же добрый кусок
мяса, такой же пудинг, столь же поджаристые гренки, выпить столь же крепкого
чаю. По мнению миссис Гейл, миссис Хог и миссис Уипп – квартирных хозяек, –
«это делается только для того, чтобы доставить людям побольше хлопот». Под
«людьми» эти дамы подразумевают, конечно, себя, да и нельзя не согласиться, что
постоянные нашествия гостей хлопот доставляют немало.
Как уже
было упомянуто, мистер Донн и его гости сидят за обедом; миссис Гейл им прислуживает,
но в глазах у нее сверкает отблеск жаркого кухонного огня. Она находит, что за
последнее время ее жилец злоупотребляет своим правом приглашать к столу друзей
без дополнительной оплаты, о чем была договоренность при найме квартиры.
Сегодня еще только четверг, однако уже в понедельник к завтраку явился мистер
Мелоун, помощник священника из Брайерфилда, и остался к обеду. Во вторник тот
же мистер Мелоун вместе с мистером Суитингом из Наннли зашли выпить по чашке
чаю, потом остались ужинать и переночевали на запасных кроватях, а в среду
утром соизволили и позавтракать; и вот нынче в четверг оба они снова тут как
тут! Обедают да наверняка еще и проторчат целый вечер. «C'en est trop»,[5] - сказала бы
она, если бы говорила по-французски.
Мистер
Суитинг мелко режет ростбиф и жалуется, что он жесткий как подошва; мистер Донн
сетует на слабое пиво. Вот это хуже всего! Будь они учтивы, хозяйке было бы не
так обидно; если бы ее угощение пришлось им по вкусу, она бы им многое
простила, но «молодые священники слишком уж заносятся и на всех смотрят сверху
вниз; они дают ей понять, что она им не ровня», и позволяют себе дерзить ей
только потому, что она не держит служанки и ведет хозяйство сама, по примеру
своей покойной матери; вдобавок они постоянно бранят йоркширские обычаи и
йоркширцев, а это, по мнению миссис Гейл, говорит о том, что они не настоящие
джентльмены, во всяком случае не благородного происхождения. «Разве сравнишь
этих юнцов со старыми священниками! Те умеют себя держать и одинаково
обходительны с людьми всякого звания».
«Хле-ба!»
– крикнул мистер Мелоун, и его выговор, хотя он и произнес всего лишь двусложное
слово, тут же выдал уроженца края трилистника и картофеля.[6] Этот священник особенно
неприятен хозяйке, однако он внушает ей трепет – так он велик ростом и широк в
кости! По всему его обличью сразу видно, что это истый ирландец, хотя и не
«милезианского» типа, подобно Даниелю О'Коннелу;[7]
его скуластое, словно у североамериканского индейца, лицо характерно лишь для
известного слоя мелкопоместных ирландских дворян, у которых на лицах застыло
высокомерно-презрительное выражение, более подобающее рабовладельцам, чем
помещикам, имеющим дело со свободными крестьянами. Отец Мелоуна считал себя
джентльменом; почти нищий, кругом в долгах, а надменности хоть отбавляй; таков
же и его отпрыск.
Миссис
Гейл поставила хлеб на стол.
– Нарежь
его, женщина, – приказал гость.
И
«женщина» повиновалась. Дай она себе в эту минуту волю, она, кажется, заодно
отрезала бы и голову священнику; такой повелительный тон возмутил до глубины
души гордую уроженку Йоркшира.
Священники,
обладая изрядным аппетитом, съели изрядное количество «жесткого как подошва»
жаркого и поглотили немало «слабого» пива; йоркширский пудинг и две миски
овощей были уничтожены мгновенно, как листва, на которую налетела саранча; сыру
также было воздано должное, а сладкий пирог вмиг исчез бесследно, как видение!
И только на кухне ему была пропета отходная Авраамом, сыном и наследником
миссис Гейл, малышом шести лет; он рассчитывал, что и ему кое-что перепадет, и
при виде пустого блюда в руках матери отчаянно заревел.
Тем
временем священники потягивали вино, правда, без особого удовольствия, ибо оно
не отличалось высоким качеством. Что и говорить, Мелоун попросту предпочел бы
виски, но Донн как истый англичанин не держал у себя такого напитка. Потягивая
портвейн, они спорили; спорили не о политике, не о философии, не о литературе –
эти темы никогда их не интересовали – и даже не о богословии, практическом или
догматическом; нет, они обсуждали незначительные частности церковного устава,
мелочи, которые всем, кроме них самих, показались бы пустыми, как мыльные
пузыри. Мистер Мелоун ухитрился осушить два стакана, в то время как его друзья
выпили по одному, и настроение его заметно поднималось: он развеселился на свой
лад – стал держать себя вызывающе, заносчивым тоном говорил дерзости и
покатывался со смеху от собственного остроумия.
Каждый
из сотрапезников по очереди становился мишенью для его острот. У Мелоуна всегда
был наготове запас плоских шуточек, которыми он угощал своих приятелей при
дружеских встречах, не пытаясь быть разнообразным; это и не требовалось, ибо
сам он не находил себя скучным, а о том, что думают другие, нимало не
заботился. Он высказался насчет чрезмерной худобы и вздернутого носа мистера
Донна, поехидничал, критикуя некий весьма потертый шоколадно-коричневый сюртук,
к которому сей джентльмен питал особое пристрастие во всех случаях жизни и при
любой погоде, посмеялся над выговором приятеля и вульгарными словечками, которыми
тот пересыпал свою речь, что, безусловно, придавало ей своеобразное «изящество»
и колоритность.
Суитинга
он попрекнул тщедушным видом, – тот рядом с верзилой Мелоуном и в самом
деле казался чуть ли не ребенком, – посмеялся над его музыкальными талантами,
ибо Суитинг играл на флейте и пел гимны ангельским голосом (по мнению некоторых
его юных прихожанок), назвал его «дамским угодником» и в довершение всего
принялся ехидничать насчет нежной привязанности юноши к матушке и сестрицам, о
которых тот имел неосторожность говорить в присутствии ирландца, чье черствое
сердце начисто лишено было родственных чувств.
Жертвы
воспринимали его нападки каждый по-своему: Донн противопоставлял им броню
самодовольной тупости и невозмутимой важности, заменявшей ему чувство
собственного достоинства; Суитинг – равнодушие покладистого, веселого юнца,
который о поддержании достоинства вовсе не заботится.
Но когда
насмешки стали чересчур колкими, жертвы объединились и попытались отплатить
обидчику той же монетой. Они полюбопытствовали, сколько мальчишек кричали ему
сегодня вслед: «Питер-ирландец!» (Мелоуна звали Питер – преподобный Питер Огест
Мелоун); поинтересовались, не из Ирландии ли идет странный обычай – навещать
своих прихожан с заряженными пистолетами в карманах и с дубинкой в руках,
предложили разъяснить им значение слов: покр-ров, твер-рдость, р-руль, гр-роза
(так, раскатывая «р», произносил их мистер Мелоун), – словом, пускали в
ход все свое природное остроумие, чтобы побольнее его уколоть.
Разумеется,
ни к чему хорошему это не привело. Мелоун, не отличавшийся ни благодушием, ни
спокойным нравом, вышел из себя. Он кричал, размахивая руками, а Донн и Суитинг
хохотали. Он вопил, что они саксы и снобы, и его пронзительный кельтский голос
звенел на самых высоких нотах; они в ответ напомнили ему, что он уроженец
завоеванной страны. От имени своей «рродины» он грозил им восстанием, изливал
накипевшую в нем ненависть к господству Англии; они тыкали ему в глаза
лохмотья, нищету, болезни его родной Ирландии. В маленькой гостиной поднялся
невообразимый шум. Казалось, такая ядовитая перебранка неминуемо должна
закончиться дракой. Было удивительно, что хозяева не пугаются, не посылают за
констеблем для водворения порядка; но они уже привыкли к подобного рода бурным
спорам, знали, что у священников ни обед, ни чай не обходились без состязаний в
красноречии и что это ничем не грозит; знали также, что от их ссор больше шума,
чем вреда, и что в каких бы отношениях не расстались друзья сегодня вечером,
завтра утром они встретятся как ни в чем не бывало.
Итак,
почтенные супруги сидели у кухонного очага, прислушиваясь к громким ударам кулака
Мелоуна по обеденному столу красного дерева, к звону подскакивающих стаканов и
графина, к насмешливому хохоту двух союзников-англичан и несвязным выкрикам их
одинокого противника-ирландца, как вдруг на крыльце послышались чьи-то шаги и
настойчиво застучал дверной молоток.
Мистер
Гейл пошел отворять.
– Кто
это у вас шумит наверху? – властно спросил чей-то гнусавый голос.
– Никак
это мистер Хелстоун? В темноте я вас не сразу и разглядел… теперь так рано темнеет.
Милости просим, сэр, входите.
– Сначала
мне нужно знать, стоит ли входить. Кто у вас там?
– Молодые
священники, сэр.
– Как,
все трое?
– Да,
сэр.
– Обедали
здесь?
– Да,
сэр.
– Отлично.
С этими
словами в дом вошел пожилой мужчина, весь в черном. Он пересек кухню, отворил
внутреннюю дверь и, подняв голову, прислушался. Да и было что послушать –
спорщики, как нарочно, шумели пуще прежнего.
Посетитель
буркнул что-то себе под нос; затем, обратясь к мистеру Гейлу, спросил:
– И
часто они у вас этак развлекаются?
Мистер
Гейл, бывший церковный староста, всегда проявлял снисходительность к особам
духовного звания.
– Молоды
еще, сэр, сами знаете, – сказал он примирительно.
– Молоды!
Проучить их надо! Негодники, бездельники! Ведь если бы вы были диссидентом,[8] а не добрым
сыном англиканской церкви, они бы все равно вели себя так же, они бы себя позорили…
но уж я…
Не
закончив фразы, он вышел из кухни, затворил за собой дверь и поднялся по
лестнице. На верхней площадке он снова остановился и послушал. Затем без стука
распахнул дверь комнаты и остановился на пороге.
Все трое
смолкли, оторопело уставясь на него; неожиданный гость тоже замер на месте. Это
был человек невысокого роста, но с очень прямым станом и широкими плечами, а
его маленькая головка с острыми глазами и крючковатым носом делала его похожим
на ястреба; не сочтя нужным снять или хоть приподнять свою широкополую шляпу,
он скрестил руки на груди и, не двигаясь с места, спокойно, свысока разглядывал
своих молодых приятелей, если только это были его приятели.
– Что
я слышу! – начал он, произнося слова, уже не гнусавым, а глубоким
раскатистым голосом. – Что я слышу? Уж не повторилось ли чудо духова дня?[9] Уж не
снизошли ли с небес разделяющиеся языки? Но где они? Только что этот шум
наполнял весь дом. Я различил семнадцать наречий сразу: парфяне, и мидяне, и
еламиты, жители Месопотамии, Иудеи и Каппадокии, Понта и Асии, Фригии и
Памфилии, Египта и частей Ливии, прилежащих к Киринее, и пришедшие из Рима,
иудеи и прозелиты, критяне и аравитяне – все они, по-видимому, были здесь, в
этой комнате, две минуты тому назад.
– Извините,
мистер Хелстоун! – начал Донн. – Не присядете ли вы, сэр, не налить
ли вам вина?
На это
учтивое предложение ответа не последовало; ястреб в черном одеянии продолжал:
– Что
я толкую о даре языков! Дар, как бы не так! Я перепутал главы, и книги, и
заветы! Новый завет с Ветхим, Деяния апостолов с книгой Бытия, Иерусалим с
долиной Сенаар.[10]
Нет, тот шум, что буквально оглушил меня, это не дар языков, а вавилонское
столпотворение. Это вы-то апостолы? Вы трое? Разумеется, нет. Три самонадеянных
вавилонских каменщика – вот вы кто!
– Уверяю
вас, сэр, мы просто болтали за стаканом вина после дружеской трапезы. Ну и
взялись разносить диссидентов…
– Диссидентов,
вот оно что! И Мелоун тоже разносил диссидентов? А мне-то показалось, что он
разносит своих собратьев. Вы просто ругали друг друга. И вы трое шумели ничуть
не меньше, чем наш портной Моисей Барраклу вкупе со своими слушателями, когда
они войдут в раж в методистской молельне. А ведь, наверно, все из-за тебя,
Мелоун.
– Из-за
меня? Что вы, сэр!
– Конечно,
из-за тебя. До твоего приезда и Донн, и Суитинг вели себя смирно и опять присмиреют,
если ты уедешь. Тебе бы следовало, отправляясь к нам, оставить свои ирландские
привычки по ту сторону пролива;[11]
быть может, там, среди болот и в диких горах Коннота,[12] повадки дублинского
студента сходят священнику с рук, но здесь, в благопристойном английском
приходе, они неуместны. Вы все позорите и самих себя и, что еще хуже, церковь,
скромными служителями которой вы являетесь.
В
обращении маленького пожилого джентльмена с молодыми священниками, в том, как
он их отчитывал, сквозила известная властность, – может быть, и неуместная
при данных обстоятельствах. Мистер Хелстоун, прямой, как шест, с острым
взглядом ястреба, несмотря на свою одежду – черный сюртук, широкополую шляпу и
гетры, – больше походил на старого служаку-офицера, распекающего
подчиненных, чем на почтенного священника, увещевающего своих духовных сынов. Евангельская
доброта, апостольская кротость не наложили своего отпечатка на это смуглое
энергичное лицо; его изваяла твердость, раздумье проложило на нем свои борозды.
– Мне
только что повстречался Сапплхью, – продолжал он. – Невзирая на
ненастье и поздний час, он брел по болотам читать проповедь сектантской общине
Милдина. Как я уже упоминал, я слышал Барраклу, проповедовавшего в сектантской
молельне, и голос его напоминал рев разъяренного быка; а вас, джентльмены, я
застаю в полном бездействии, вы прохлаждаетесь за полпинтой дрянного портвейна
и пререкаетесь подобно сварливым кумушкам. И не удивительно, что Сапплхью за
один день смог окрестить шестнадцать новообращенных взрослых, как это случилось
две недели тому назад, или что негодяй и лицемер Барраклу сумел привлечь в свою
молельню всех этих девушек-ткачих, явившихся в уборе из лент и цветов, чтобы
убедиться, насколько его пальцы тверже края деревянной купели. Стоит лишь
предоставить вас самим себе – и вы частенько служите в пустой церкви и
произносите свои сухие проповеди лишь для причетника, органиста и церковного
сторожа. Но довольно об этом. Сейчас мне нужен Мелоун. У меня к тебе дело, вояка!
– Какое? –
недовольно спросил Мелоун. – Для похорон как будто поздновато…
– Ты
сейчас вооружен?
– Конечно!
Я всегда вооружен… – И он вытянул свои могучие руки и ноги.
– Не
шути! Я говорю о настоящем оружии!
– Я
всегда ношу при себе пистолеты, которые вы мне дали; даже ночью они лежат
наготове у моей постели. Есть у меня и палка.
– Отлично.
Можешь ты сейчас отправиться на фабрику Мура?
– А
что там стряслось?
– Пока
ничего, да, может, ничего и не будет, но Мур там совсем один. Всех надежных рабочих
он послал в Стилбро, а с ним остались только две женщины. Узнай его «дружки»,
что путь свободен, они не преминули бы его навестить.
– Но
и я не принадлежу к числу его друзей, сэр; что он мне?
– Ого,
Мелоун, ты трусишь?
– Вы,
конечно, шутите. Если бы я мог предположить, что там и вправду завяжется потасовка,
я бы пошел. Но ради удовольствия провести вечер в обществе Мура – нелюдимого,
странного и чуждого мне человека – я не сделаю и шагу.
– Потасовка
может вспыхнуть. Конечно, настоящего бунта не будет, но вряд ли эта ночь
пройдет спокойно. Ты ведь знаешь, что Мур решил во что бы то ни стало
установить новые машины и сегодня вечером ждет из Стилбро два фургона с
ткацкими и стригальными станками. Старший мастер Скотт и несколько надежных
людей уже отправились за ними.
– Они
доставят их в целости и сохранности, сэр.
– Мур
тоже в этом уверен и считает, что никто ему не нужен. И все-таки на всякий
случай не мешает кому-нибудь быть поблизости, хотя бы в качестве свидетеля. Мур
слишком неосторожен: не закрывает ставен в конторе, поздно вечером бродит
совсем один по склону лощины или среди кустов возле поместья Филдхед, словно он
неуязвим, словно он у нас всеобщий любимец или заколдован от ненависти, которую
сам снискал. Печальная судьба Пирсона и Армитеджа – в одного стреляли в его
собственном доме, а в другого на пустоши – не служит ему предостережением!
– А
не мешало бы ему вести себя поосмотрительнее, да он, наверно, и поостерегся бы,
доведись ему услышать то, что я услышал на днях, – вмешался Суитинг.
– Что
ты слышал, Дэви?
– Вы
знаете Майка Хартли, сэр?
– Ткача-антиномиста?[13] Ну конечно.
– Так
вот, после продолжительного запоя Майк обычно ходит в Наннли, к мистеру Холлу,
высказывает ему свое мнение о его проповедях, порицает за приверженность к
доктрине добрых дел и заявляет ему, что как сам мистер Холл, так и все его
прихожане пребывают во мраке кромешном.
– Все
это так, но при чем здесь Мур?
– Этот
Майк не только антиномист, сэр, но к тому же убежденный якобинец и левеллер.[14]
– Это
я знаю. Когда он основательно напьется, он только и думает что о цареубийствах.
Майк довольно сведущ в истории, и любопытно послушать, как он перечисляет тиранов,
которые «не ушли от кровавого возмездия». Он прямо-таки бредит убийствами
коронованных особ и покушениями политического характера. Мне уже намекали, что
у него какой-то странный интерес к Муру. Ты это имеешь в виду, Суитинг?
– Вы
угадали, сэр. Мистер Холл думает, что у Майка нет личной ненависти к Муру; Майк
и сам признает, что он не прочь с ним поговорить, только он вбил себе в голову,
что участь Мура должна послужить уроком для других. Совсем недавно он отзывался
о Муре с похвалой, как об умнейшем фабриканте Йоркшира, и доказывал, что
поэтому-то Мура и следует избрать искупительной жертвой. Не кажется ли вам,
сэр, что он сумасшедший, этот Хартли? простодушно закончил Суитинг.
– Кто
его знает, Дэви; может быть, сумасшедший, может быть, плут, а скорее всего – и
то и другое.
– Он
уверяет, что у него бывают видения.
– О
да! Что касается видений, это второй Иезекииль[15]
или Даниил. В прошлую пятницу он пришел ко мне, когда я уже собирался лечь
спать, и поведал об одном видении, явившемся ему днем в Наннлийском парке.
– Кого
же он увидел, сэр? – снова спросил Суитинг.
– О
Дэви, на твоем черепе красуется большая шишка любопытства,[16] а вот Мелоун, как видно,
ее лишен: ни видения, ни убийства его не интересуют. Взгляни-ка на этого
рослого, ко всему безучастного Сафа.[17]
– Саф?
А кто был Саф?
– Ну
конечно же, я так и думал. Постарайся узнать это из библии, правда, мне и
самому известно только его имя и колено, но его образ живо представляется мне
еще с детского возраста. Мне кажется, он был честен, но неуклюж и несчастлив,
этот Саф. Он погиб при городе Гоб от руки Сивхая.
– Ну,
а видение, сэр?
– Подожди,
сейчас услышишь. Донн уже покусывает ногти, а Мелоун зевает, так что я расскажу
это одному тебе. Майк сейчас, к несчастью, без работы, как и многие другие, и
мистер Грейм, управляющий сэра Филиппа Наннли, поручил ему обнести поместье
живой изгородью; и вот, рассказывал мне Майк, когда он работал однажды перед
самыми сумерками, ему почудились звуки горна, флейты и трубы, словно далеко в
лесной чаще играл оркестр; удивленный, он огляделся и увидел, что среди
деревьев мелькают какие-то существа, красные, как мак, и белые, как яблоневый
цвет; лес кишел ими; все прибывая, они проникали в помещичий сад, и тут он понял,
что это солдаты, тысячи и тысячи солдат, но шума от них было не больше, чем от
мошек, роящихся летним вечером. В стройном порядке они промаршировали полк за
полком по парку. Майк последовал за ними и дошел до общинного луга; издали все
еще доносилась тихая музыка. На лугу солдаты начали перестраиваться, повинуясь
команде человека в алом одеянии, стоявшего в самой середине. Строй растянулся
на пространстве свыше пятидесяти акров; с полчаса Майк наблюдал за ними; затем
они неслышно удалились; за все время он не уловил ни звука их голосов, ни поступи,
ничего, кроме музыки – торжественного марша.
– Куда
же они направились?
– К
Брайерфилду; Майк пошел было за ними, но когда они проходили мимо Филдхеда,
столб серовато-синего дыма, словно от артиллерийского залпа, бесшумно
разостлался над полями, дорогой и лугом и докатился до самых его ног. Когда дым
рассеялся, Майк поглядел по сторонам, ища солдат, но их больше не было видно.
Майк, как и подобает мудрому Даниилу, не только поведал нам о своем видении, но
и дал ему толкование: по его мнению, оно предвещает кровопролитие и гражданские
распри.
– И
вы этому верите, сэр? – спросил Суитинг.
– А
ты, Дэви?.. Однако, Мелоун, ты все еще здесь?
– Странно,
сэр, что вы сами не остались у Мура. Такие вещи вам по душе.
– Я
бы так и сделал, но, к сожалению, я пригласил Болтби поужинать со мной после
заседания Библейского общества в Наннли. Я обещал Муру прислать тебя, за что, к
слову сказать, он меня не поблагодарил, он предпочел бы мое общество. Но если
что-нибудь случится, пусть ударят в фабричный колокол, и я поспешу к вам.
Ступай же! А впрочем, – он повернулся к Суитингу и Донну, не пожелают ли
заменить тебя Дэви или Джозеф Донн? Что скажете, джентльмены? Поручение
почетное, связанное с известным риском, – для вас не тайна, что в округе
неспокойно, что население ненавидит и самого Мура, и его фабрику, и его машины.
Я не сомневаюсь, что у вас в груди бьются сердца, полные рыцарских чувств и
благородной отваги. Может быть, я слишком пристрастен к моему любимцу Питеру;
пусть героем станет наш маленький Дэвид или наш непорочный Джозеф. А ты,
Мелоун, оказывается, всего лишь огромный неуклюжий Саул,[18] тебе остается только
вручить свои доспехи более достойным: вынимай же свои пистолеты, подай сюда
свою палку – вон она в углу.
С
многозначительной усмешкой Мелоун вынул из кармана пистолеты и протянул их
своим собратьям. Однако те не спешили завладеть ими; напротив, оба джентльмена
с похвальной скромностью отступили на шаг.
– Я
никогда не беру в руки оружия, – заявил Донн, – даже не прикасаюсь к
нему.
– А
я едва знаком с Муром, – пробормотал Суитинг.
– Если
ты никогда не брал в руки оружия, не мешает коснуться его, чтобы знать, каково
оно на ощупь, о великий сатрап Египта. Что же до нежного музыканта, он,
по-видимому, намерен встретить филистимлян[19]
с одной только флейтой в руках. Питер, подай им шляпы, они оба готовы
отправиться в путь.
– Нет,
сэр, нет, мистер Хелстоун, моя мать не одобрила бы этого, жалобно произнес Суитинг.
– Я
придерживаюсь правила никогда не вмешиваться в подобного рода дела, –
заметил Донн.
По лицу
Хелстоуна скользнула презрительная усмешка, а Мелоун раскатисто захохотал; он
положил пистолеты в карман, взял шляпу и палку и, заявив, что «сегодня он был
бы не прочь ввязаться в хорошую потасовку и ему даже хотелось бы, чтобы
компания грязных сукновалов нагрянула этой ночью к Муру», вышел из комнаты,
сбежал по лестнице, прыгая через две-три ступеньки, и захлопнул за собой дверь
с такой силой, что весь дом содрогнулся.
|


