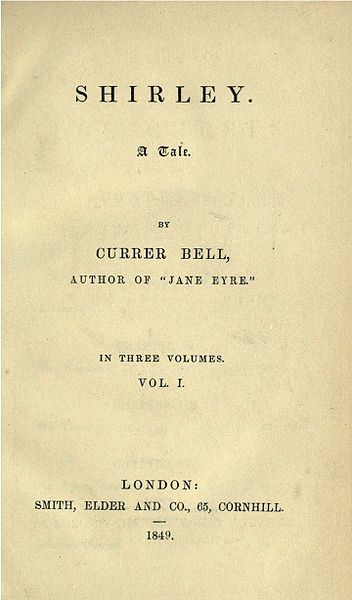
 Увеличить Увеличить |
ГЛАВА V
Домик в лощине
Когда
Мур проснулся на следующее утро, хорошее настроение еще не покинуло его. Он
вместе с Джо Скоттом переночевал на фабрике, соорудив для себя ложе из всех
подходящих предметов, какие оказались под рукой в различных уголках конторы.
Хозяин – всегда ранняя пташка – на этот раз поднялся раньше обычного; одеваясь,
он даже принялся напевать французскую песенку и разбудил Джо.
– Да
вы, я вижу, не унываете, хозяин?
– Ничуть,
mon garcon, что означает «дружище», – вставай-ка и ты поживее, и пока мы с
тобой будем обходить фабрику, до начала работы я успею посвятить тебя в свои
планы. У нас все-таки будут машины, Джозеф: слыхал ли ты что-нибудь о Брюсе?[36]
– И
о пауке? Слыхал, как же; я читал историю Шотландии и знаю ее небось не хуже вашего;
вы хотите сказать – не уступим?
– Вот
именно.
– Любопытно,
а много в ваших краях таких вот упорных, как вы? осведомился Джо, складывая и
убирая в угол свою временную постель.
– В
моих краях? А где же это – мои края?
– Как
же! Франция – разве нет?
– Ну
уж нет! Правда, Франция завладела Антверпеном, где я родился, но это еще не
делает меня французом!
– Значит,
Голландия?
– Тоже
нет. Я не голландец; ты путаешь Антверпен с Амстердамом.
– Так
Фландрия?
– Что
ты выдумываешь, Джо! Какой я фламандец! Разве у меня лицо фламандца? Нескладный
нос картошкой, низкий, словно срезанный, лоб, водянистые глаза a fleur de tête?[37] Или я коротконогий
толстяк, как все эти фламандцы? Впрочем, ты и представления не имеешь, как они
выглядят нидерландцы. Нет, Джо, я уроженец Антверпена, так же как и моя мать,
но родом она была из Франции, вот почему я и говорю по-французски.
– Зато
отец ваш был йоркширцем, – значит, и вы немного йоркширец; да оно и видно,
что вы нам сродни, вам только бы наживать денежки да идти в гору!
– Джо,
ты просто наглец! Правда, такой тон для меня не новость. И в Бельгии рабочие держатся
очень развязно с хозяевами, то есть я хочу сказать brutalement, что, пожалуй,
вернее всего перевести как «грубо».
– Что
ж, у нас тут принято говорить, что думаешь, без обиняков! Молодые священники и
большие господа из Лондона иной раз поражаются на нашу неотесанность, а мы и
рады подразнить их; смешно смотреть, как они негодуют, закрывают глаза и
разводят руками, словно им выворачивает душу, да так и сыплют словами: «Ужас!
Вот дикари! До чего же грубы!»
– Вы
и есть дикари, Джо. Что ты думаешь, вы здесь образованные?
– Не
то чтобы очень, но кое-что знаем! Мне сдается, рабочий люд на севере
посмышленее, да и посметливее этих пахарей-южан. Ремесло отточило нам мозги; а
механикам вроде меня и подавно приходится шевелить мозгами; сами знаете, что
значит следить за машинами, – вот я уже и навострился; если мне что не
понятно, я стараюсь дойти своим умом, и бывает, соображу что к чему; да и
почитать я охотник – интересуюсь, что наши правители думают делать с нами и для
нас; а есть у нас и посмышленее меня! Среди тех же замасленных парней и
красильщиков, измазанных краской, найдется немало толковых, что и в законах
разбираются не хуже вас и старого Йорка и, уж конечно, лучше этого слюнтяя,
Кристофера Сайкса из Уинбери, или того же долговязого, хвастливого болтуна –
ирландского Питера, помощника Хелстоуна.
– Знаю,
Джо, ты считаешь себя умником!
– Н-да,
меня не проведешь, разберу что к чему, да и подходящего случая не упущу; я половчее
тех, кто считает меня за низшего. Что толковать, в Йоркшире у нас много таких,
как я, а есть и получше меня.
– Ну,
разумеется – ты великий человек, ты просто самородок. Но вместе с тем ты наглец
и самодовольный болван; если ты понахватался кое-каких начатков практической
математики да, глядя в красильный чан, усвоил в химии кое-какие азы, тебе еще
не стоит считать себя каким-то непризнанным ученым. Ни к чему также спешить с
выводом, что если в торговом деле не всегда все идет гладко и ваш брат,
рабочий, остается иной раз без работы и куска хлеба, то значит, все вы мученики
и весь образ правления в нашей стране никуда не годен. И незачем вбивать себе в
голову, что добродетель ютится только в хижинах и никогда не заглядывает в
каменные дома; должен признаться, меня раздражает эта ерунда, – уверяю
тебя, род людской везде одинаков, будь то под соломенной кровлей или черепичной
крышей, в каждом живом существе перемешаны и пороки и добродетели, а уж чего
больше – это определяется отнюдь не званием или положением; мне приходилось
встречать негодяев среди богатых, и бедных, и среди людей среднего достатка, которые
умеют довольствоваться малым. Но вот уже и шесть часов! Хватит болтать, Джо,
пора звонить в колокол!
Была
середина февраля: в шесть часов заря едва занималась, под ее бледными лучами
плотный мрак ночи редел, переходя в полупрозрачную молочную мглу. В это утро
заря была особенно бледной: восток не заалел, розовое сияние не согрело его.
День медленно поднимал веки, мутным и скучным взглядом окидывал холмы, и вам
уже не верилось, что может выглянуть солнце, что его не загасил ночной ливень.
Дыхание утра было таким же холодным, как его лик. Сырой ветер разгонял ночные
тучи, и когда они разошлись, глазам открылся тускло-серебристый круг,
опоясавший горизонт, и застланный пеленой тумана небосвод. Дождь перестал, но
земля была еще совсем мокрая, лужи и ручейки набухли от воды.
Окна
фабрики засветились, колокол зазвонил – и вот уже начали сбегаться детишки;
будем надеяться, что в спешке они не успели очень прозябнуть в это
неприветливое утро; но, быть может, оно показалось им не особенно суровым они
ходили на фабрику и в ливень, и в метели, и в трескучие морозы.
Мур
стоял у ворот, считал их и пропускал во двор; тем, кто опаздывал, он делал
замечание, а Джо Скотт, со своей стороны, добавлял два-три словечка покрепче,
когда они входили в цех; однако ни хозяина, ни старшего мастера нельзя было
упрекнуть в излишней суровости; ни тот, ни другой не были грубыми или жестокими
людьми, хотя такое впечатление и могло создаться, ибо один опоздавший рабочий
был оштрафован; Мур тут же у ворот взял с него пенни и предупредил, что в следующий
раз взыщет вдвое.
В
подобных случаях правила, разумеется, необходимы, и понятно, что чересчур
строгие и жестокие хозяева вводят у себя чересчур строгие и жестокие правила,
иногда даже и бесчеловечные, как это бывало в описываемое время; но хоть я и
показываю характеры, далекие от совершенства (каждое лицо, выведенное в этом
романе, будет страдать кое-какими недостатками, ибо перо мое отказывается
рисовать идеальные образы), однако я не ставлю своей задачей показывать совсем
уж скверных, порочных людей. Истязателей детей, мучителей и тиранов я препоручаю
ведению тюремщиков: романист же вправе не пятнать страниц своей книги описанием
их позорных деяний.
Итак, я
не стану терзать моего читателя, поражая его воображение рассказами о бичеваниях
и побоях, но рада буду сообщить ему, что ни Мур, ни его старший мастер ни разу
не ударили ребенка, из числа работавших на фабрике. Правда, Джо однажды высек
собственного сына за ложь и упорство во лжи; однако, будучи, как и его хозяин,
человеком уравновешенным, спокойным и благоразумным, предпочитал избегать
телесных наказаний.
Мур
бродил по фабрике, заходя то в красильню, то на фабричный двор, то на товарный
склад до тех пор, пока не рассвело. Но вот наконец взошло и солнце, –
бледное, бесцветное, словно ледяной шар, – оно показалось из-за темного
гребня холма, слегка посеребрило тускло-свинцовый край плывшего над холмом
облака к словно нехотя заглянуло во все концы той лощины, или узкой долины, за
которой мы с вами наблюдаем. Пробило восемь часов; огни на фабрике погасли; прозвучал
сигнал к завтраку; дети, освободясь на полчаса от своего тяжкого труда,
принялись за еду: в корзиночках у них был хлеб, а в маленьких жестянках – кофе.
Будем надеяться, что этот скудный завтрак утолит их голод, и очень жаль, если
это не так.
Теперь
наконец Мур покинул фабричный двор и направился к своему жилищу. Оно было
расположено недалеко от фабрики, но живая изгородь и насыпь по обе стороны
дорожки придавали ему вид уединенного, тихого уголка. Это был небольшой, чисто
выбеленный домик с зеленым крыльцом; возле него, так же как и под окнами,
вытянулись тонкие коричневые стебли вьющихся растений, еще совсем голые, но
обещавшие одеться к лету пышной листвой и цветами. Перед домом расстилалась
лужайка, были разбиты цветочные грядки, на их темных полосах кое-где в укромных
уголках из земли уже пробивались первые ростки подснежника и изумрудно-зеленого
крокуса. Весна в этом году была поздняя; зима была суровой и затяжной,
последний снег сошел только перед ливнем прошлой ночью, и отдельные его клочья
еще тускло белели кое-где на склонах холмов и на их вершинах; на лужайке, на
пригорках и под живой изгородью трава была не сочно-зеленой, но блекло-желтой.
Позади домика возвышались три стройных дерева, не особенно раскидистых, но так
как у них не было соперников, то и они радовали взгляд и хоть немного украшали
садик. Таким было жилье Мура; это уютное гнездышко, созданное для тихих
радостей, для созерцательной жизни, показалось бы тесным человеку энергичному и
честолюбивому.
Скромное,
приятное жилье это, очевидно, не слишком привлекало к себе владельца; не входя
в дом, Мур взял из-под навеса лопату и принялся работать в саду. С четверть
часа он копал землю, когда вдруг отворилось окно и женский голос окликнул его:
– Eh
bien! Tu ne déjeunes pas ce matin?[38]
Мур
ответил тоже по-французски, и дальнейшая беседа между ними продолжалась на том
же языке; однако я предпочитаю перевести тебе, читатель, их разговор.
– А
завтрак готов, Гортензия?
– Конечно,
уже с полчаса, как он тебя ждет.
– И
я тоже жду; я голоден как волк.
Бросив
лопату, Мур поднялся на крыльцо и узким коридором прошел в маленькую столовую,
где был уже приготовлен завтрак – кофе, хлеб с маслом и отнюдь не английское
блюдо – пареные груши. За столом хозяйничала дама, только что беседовавшая с
ним. Я хочу описать ее, прежде чем продолжать повествование.
Эта
особа высокого роста, в меру полная, выглядела чуть постарше Мура ей было лет
тридцать пять; у нее были очень темные волосы, накрученные на папильотки,
румяные щеки, короткий нос и черные глазки-бусинки. Нижняя часть лица казалась
тяжеловатой в сравнении с верхней, так как у нее был низкий лоб, изрезанный
морщинами; выражение лица не то чтобы злое, однако несколько недовольное; в ее
внешности было нечто забавное и вместе с тем раздражающее. Особенно нелепым был
ее костюм – полотняная кофта в полоску и короткая шерстяная юбка, открывавшая
до щиколоток не слишком изящные ноги.
Читатель,
тебе, конечно, показалось, что я вывела перед тобой неряху? Вовсе нет. Гортензия
Мур (она приходилась Муру сестрой) была хозяйственной и аккуратной женщиной;
юбка, кофта и папильотки составляли ее домашний утренний наряд, в котором она
привыкла до полудня «заниматься хозяйством» на родине. Она не считала
обязательным для себя одеваться на английский лад только потому, что вынуждена
была жить в Англии; сохраняя верность старинным бельгийским модам, она ставила
себе это в заслугу.
Мадемуазель
была самого высокого мнения о своей особе, и нельзя утверждать, чтобы такое
мнение было совершенно незаслуженным, – кое-какими хорошими и даже ценными
качествами она обладала. Однако она несколько преувеличивала ценность этих
качеств, не придавая никакого значения сопровождавшим их недостаткам. Вам не
удалось бы убедить ее в том, что она женщина ограниченная, не свободная от
предрассудков, мелочно обидчивая, слишком носится со своей собственной
персоной, со своим достоинством, а ведь это было именно так. Но когда никто не
оспаривал ее притязаний на изысканность и не оскорблял ее предрассудков, она
становилась доброй и дружелюбной. К обоим своим братьям (кроме Роберта, у нее
был еще один брат) она была очень привязана. Последние представители угасающего
рода, оба они были для нее почти священны; Луи, однако, она знала гораздо
меньше, чем старшего брата; еще совсем мальчиком он был отправлен в Англию и
окончил там английскую школу. Ни по образованию, ни по природным склонностям он
не годился в предприниматели, и когда рухнули его надежды на наследство и ему
пришлось подумать о заработке, он избрал суровый и скромный путь учителя.
Сперва он был репетитором в школе, а сейчас, по слухам, служил гувернером в
частном доме. О Луи мадемуазель отзывалась как о человеке, не лишенном
способностей, но чересчур робком и тихом; ее похвала Роберту звучала по-иному,
без всяких оговорок, она гордилась им и считала его величайшим человеком в
Европе: в ее глазах все его слова и поступки были достойны похвалы, и весь мир
должен был разделять ее мнение. Ничто не может быть чудовищнее и постыднее, чем
мешать Роберту в его делах, – разве не мешать ей самой.
И вот
едва лишь ее любимый Роберт сел за стол, как она, положив ему на тарелку
пареных груш и большой кусок сладкого пирога, принялась ахать и изливать свое
негодование по поводу ночного происшествия.
– Quelle
idee! Ломать машины! Quelle action honteuse! On voyait Bien que les ouvriers de
ce pays etaient a la fois betes et mechants. C'etait absolument comme les
domestiques Anglais, les servantes surtout: rien d'insupportable commme cette
Sarah, par exemple!.[39]
– Она
производит впечатление опрятной и старательной девушки, – заметил Мур.
– Не
знаю уж, какое она производит впечатление! Да я и не говорю, что она ленива или
грязна, mais elle est d'une insolense![40]
Вчера, например, спорила со мною целых четверть часа насчет приготовления
говядины; говорит, что я ее вывариваю и она становится как тряпка, что ни один
англичанин не стал бы есть такого блюда, как наша bouilli,[41] что мой бульон – просто
теплая, мутная вода, а что касается choucroute,[42] так ее и в рот не
возьмешь! Бочонок, который стоит у нас в погребе, отлично приготовленный моими
собственными руками, она называет свиным пойлом, помоями! Я измучилась с этой
девчонкой, а прогнать ее не решаюсь – вдруг попадется еще худшая. Так-то вот и
ты, мой бедный дорогой брат, бьешься со своими рабочими!
– Боюсь,
что ты не очень хорошо чувствуешь себя в Англии, Гортензия.
– Мой
долг, дорогой брат, чувствовать себя хорошо там, где находишься ты; если бы не
это, многое заставило бы меня пожалеть о нашем родном городе. По-моему, люди
здесь дурно воспитаны, они позволяют себе насмехаться над моими привычками:
если работница с твоей фабрики, зайдя иной раз к нам на кухню, застает меня за
стряпней (ты же знаешь, я не могу доверить Саре ни одного блюда), она позволяет
себе усмехаться при виде моей кофты и юбки. А если я принимаю приглашение и еду
в гости, как это было раза два-три, я замечаю, что на меня не обращают
внимания, мне не оказывают должного уважения. Представительница таких достойных
семей, как Жерары и Муры, вправе требовать к себе уважения и, не видя его,
чувствовать себя задетой. В Антверпене ко мне относились почтительно! Здесь же
стоит мне открыть рот в обществе, как все начинают переглядываться, словно я
скверно говорю по-английски, а ведь я-то знаю, что мое произношение безупречно.
– Не
забывай, Гортензия, что в Антверпене мы слыли богачами; в Англии нас считают бедняками.
– Разумеется,
но до чего же люди корыстолюбивы! Помнишь, мой друг, в прошлое воскресенье лил
дождь, и я, отправляясь в церковь, надела свои опрятные черные сабо, – в
них, конечно, неудобно выйти на улицу большого города, но нет ничего
предосудительного в том, чтобы шлепать в них по грязи здесь, – и вот когда
я спокойно и с достоинством, по своему обыкновению, вошла в церковь, четыре
дамы и четыре джентльмена фыркнули и уткнулись носами в молитвенники.
– Ну
что ж, не надевай больше сабо… Я и раньше говорил тебе, что здесь это не
принято.
– Но,
брат, это не простые сабо, какие носят крестьяне. Это sabots noirs,
tres-propres, tres-convenables.[43]
Весьма почтенные жители городов Монс и Лёз, расположенных неподалеку от такой
элегантной столицы, как Брюссель, в зимнюю пору чаще всего надевают именно
такие башмаки. Пусть бы кто отважился походить по грязи фламандских дорог в
парижских ботинках, on m'en dirait des nouvelles.[44]
– Что
нам теперь Монс и Лёз и фламандские дороги! С волками жить по-волчьи выть, и
мне кажется, тебе не следует носить здесь кофту и юбку. Я что-то не видел,
чтобы английские дамы так одевались. Спроси хотя бы Каролину Хелстоун.
– Каролину?
Мне спрашивать Каролину? Советоваться с ней насчет моих платьев? Это она должна
во всем со мной советоваться – она еще совсем девочка.
– Ей
восемнадцать или во всяком случае семнадцать лет. В этом возрасте девушки уже
знают, как надо одеваться.
– Нет
уж, прошу тебя, брат, не балуй Каролину. Не нужно, чтобы она о себе возомнила;
сейчас она скромна и непритязательна, пусть такой и останется.
– Это
и мое желание. А сегодня ты ее ждешь?
– Да,
как всегда к десяти часам, на урок французского языка.
– Она-то,
надеюсь, не смеется над тобой?
– Нет,
она уважает меня больше, чем кто бы то ни было; правда, у нее была возможность
ближе познакомиться со мной. Она убедилась, что я умна, образованна,
справедлива, обладаю хорошими манерами и всеми достоинствами настоящей дамы из
порядочной семьи.
– И
ты ее любишь?
– Люблю?
Этого я не могу сказать. Я не из тех, кто способен на пылкие чувства, но зато
на мою дружбу всегда можно положиться. Она мне родственница, и я отношусь к ней
с участием; как сирота, она вызывает мое сострадание, да и поведение ее на
уроках до сих пор было таково, что могло только увеличить мою зародившуюся
симпатию к ней.
– Она
хорошо себя ведет на уроках?
– Очень
хорошо. Ты знаешь, я умею пресекать фамильярность, внушать к себе уважение и
почтение! Но я проницательна и вижу, что Каролина отнюдь не безупречна; характер
ее оставляет желать лучшего.
– Налей
мне еще кофе и, пока я буду пить, позабавь меня рассказом о ее недостатках.
– Дорогой
брат, как я рада, что ты завтракаешь с аппетитом после столь утомительной ночи!
Что и говорить, у Каролины есть недостатки, но при моей чуть ли не материнской
заботе и твердом руководстве она, надо надеяться, исправится. Есть в ней
какая-то скрытность, и это мне не нравится: девушке подобает быть кроткой и
покорной. И потом я замечаю в ней излишнюю восторженность, и это тоже меня
раздражает. Но чаще всего она тиха, даже задумчива и печальна. Надеюсь, что со
временем мне удастся выработать в ней более ровный, степенный характер и искоренить
эту непонятную задумчивость. Все непонятное я не одобряю.
– Должен
сказать, я ничего не понял. Что ты подразумеваешь под излишней восторженностью?
– Лучше
всего, пожалуй, объяснить примером: иногда, как тебе известно, для улучшения
произношения я заставляю ее декламировать французские стихи. На таких уроках я
познакомила ее с Корнелем и Расином, и она изучала их вдумчиво, с похвальным
благонравием, которое я постоянно стараюсь ей привить; но иногда она вдруг
делается вялой, на лице у нее появляется скучающее выражение, а я не терплю
равнодушия в тех, кому посчастливилось учиться у меня; кроме того, неприлично
выказывать скуку, изучая классические произведения. На днях я вручила ей томик
стихов малоизвестных поэтов и предложила сесть у окна и выучить что-нибудь
наизусть. Когда же я вскоре взглянула на нее, она нетерпеливо листала книгу,
пробегала глазами строчки, и губы ее презрительно кривились. Я сделала ей
выговор. «Ma cousine, ответила она, – tout cela m'ennuie a la mort».[45] Я заметила,
что так говорить неприлично. «Dieu! Il n'y a donc pas deux lignes de poesie
dans toute la literature française?»[46]
– воскликнула она. Я осведомилась, что она хочет этим сказать. Она попросила
прощения с должной скромностью, притихла и продолжала читать, улыбаясь иногда
своим мыслям. Спустя полчаса она подошла ко мне, вернула книгу и, сложив руки,
как я всегда ее учила, принялась декламировать небольшое стихотворение из
Шенье, «La Jeune Captive».[47]
Если бы ты только слышал, с каким пылом она читала и какие невразумительные
суждения высказывала потом, тебе стало бы понятно, что я подразумеваю, говоря
об «излишней восторженности»; можно было подумать, что Шенье способен волновать
гораздо глубже, чем Корнель или Расин. Ты человек проницательный и, конечно,
согласишься, что такое нелепое предпочтение говорит о неуравновешенности. К
счастью, у нее есть хорошая наставница; я научу ее понимать литературу, привью
правильные взгляды и хороший вкус. Я научу ее владеть своими чувствами и
руководить ими.
– Научи,
Гортензия, непременно научи. Но вот как будто и она сама.
– Ты
прав, – однако она пришла на полчаса раньше, чем всегда. Что это ты так
рано, дитя мое? Я еще не успела позавтракать.
Слова
эти были обращены к девушке, появившейся в комнате; зимняя накидка, падавшая
изящными складками, скрывала ее стройную фигурку.
– Мне
не терпелось узнать, как вы оба себя чувствуете. Вы, должно быть, расстроены
тем, что случилось ночью? Дядя сейчас за завтраком рассказал мне обо всем.
– Не
правда ли, какая неслыханная наглость! Так ты нам сочувствуешь? И дядя твой
тоже нам сочувствует?
– Дядя
возмущен. Но ведь он ездил с вами, Роберт, на пустошь в Стилбро?
– Ну
как же! Мы с ним отправились туда в самом воинственном настроении; но пленники,
которых мы собралась выручать, встретились нам по дороге.
– Никто
не пострадал?
– Нет,
только у Джо на руках были ссадины от веревок, которыми его скрутили.
– А
вас там не было? Вы не присутствовали при нападении?
– Увы!
Человеку редко выпадает удача находиться там, где следовало бы!
– А
куда вы едете сейчас? Мергатройд седлает вашу лошадь во дворе.
– В
Уинбери. Сегодня базарный день.
– Мистер
Йорк тоже отправился туда. Он проехал мимо меня в своей двуколке. Вот бы вам и
вернуться вместе!
– Почему?
– Вдвоем
всегда лучше, чем одному; кроме того, никто не питает вражды к мистеру Йорку;
уж во всяком случае не бедняки.
– Следовательно,
я буду как бы под охраной, я, которого все ненавидят?
– Скорее
не понимают, это, пожалуй, будет вернее. Вы поздно вернетесь? Он поздно приедет,
Гортензия?
– По
всей вероятности; у него всегда много деловых встреч в Уинбери; ну, а ты,
девочка, принесла свою тетрадь?
– Да.
Когда же вы вернетесь, Роберт?
– Обычно
я возвращаюсь часам к семи. А вам хочется, чтобы я вернулся пораньше?
– Постарайтесь
быть дома засветло – часам к шести; в семь уже темнеет.
– А
чего я должен опасаться, Каролина? Что угрожает мне в темноте?
– Я
и сама толком не знаю, но все мы сейчас тревожимся за друзей. Дядя часто
говорит, что сейчас время неспокойное, что фабрикантов здесь не любят.
– И
я один из самых нелюбимых, не так ли? Вы не хотите говорить открыто, а в
глубине души опасаетесь, что я разделю участь Пирсона! Но ведь он погиб у себя
в доме – пуля влетела в окно в ту минуту, когда он поднимался по лестнице в
спальню.
– Энн
Пирсон показывала мне пулю, застрявшую в двери, – печально сказала
Каролина, складывая на столике у стены свою накидку и муфту. – Не забывайте,
что вдоль всей дороги до Уинбери тянется живая изгородь, а возле Филдхеда вам
придется ехать через рощу. Возвращайтесь к шести часам или еще раньше.
– Он
вернется раньше, – заявила Гортензия. – Ну-с, девочка, теперь
повторяй свои уроки, а я тем временем замочу горох для супа.
И она
вышла из комнаты.
– Так
вы считаете, что я нажил себе много врагов, – заметил Мур, – и
уверены, что друзей у меня нет?
– Это
неверно; у вас есть друзья, Роберт: ваша сестра, ваш брат Луи, еще не знакомый
мне, – мистер Йорк, мой дядя, да и многие другие.
– Вам,
наверное, трудно было бы назвать этих «многих других», – с улыбкой
возразил Мур. – Покажите-ка мне лучше свою тетрадь. Ого, да вы старательны
в чистописании! Вероятно, сестра моя требовательна и строга; она старается сделать
из вас примерную фламандскую школьницу. Что-то ждет вас в жизни, Каролина?
Пригодится ли вам французский язык, рисование, да и все, чему вы еще обучитесь!
– Вы
правильно сказали – чему я обучусь; что скрывать – пока Гортензия со мной не
занималась, мои знания были весьма скудными; а что ждет меня – не знаю,
наверное, буду хозяйничать в доме дяди до тех пор, пока…
Она
замялась и умолкла.
– Пока
что? Пока он не умрет?
– Ах,
что вы! Нехорошо так говорить! У меня этого и в мыслях не было, ведь ему всего
пятьдесят пять лет. Нет, до тех пор, пока… пока у меня не появятся другие
обязанности.
– Весьма
неопределенное будущее! И оно вас удовлетворяет?
– Прежде
удовлетворяло. Дети, как известно, ни над чем не задумываются, а живут только в
своем особом фантастическом мирке. Но теперь мне этого уже недостаточно.
– Почему?
– У
меня нет денег, я ничего не зарабатываю.
– Ах
вот оно что, Лина, и вам тоже хочется зарабатывать деньги?
– Да,
мне хотелось бы работать; будь я мальчиком, все было бы проще, я могла бы с легкостью
научиться настоящему делу и проложить себе дорогу в жизни.
– Любопытно
– что же это за дорога?
– Я
могла бы научиться вашему ремеслу, ведь вы все-таки мой родственник и не отказались
бы обучить меня кое-чему. Я бы вела конторские книги и переписку во время ваших
отлучек. Я знаю, вы стремитесь разбогатеть и выплатить долги вашего отца, вот я
и помогла бы вам нажить состояние.
– Помогли
бы мне? Вам следовало бы думать о самой себе.
– Я
так и делаю. Но неужели люди должны думать только о себе?
– О
ком же еще думать? О ком я смею думать? Бедные не должны быть щедры на чувства,
им следует их ограничивать.
– Нет,
Роберт…
– Да,
Каролина. В бедности поневоле становишься эгоистичным, мелочным, вечно недовольным.
Бывает, правда, что сердце бедняка, согретое лучами любви, готово пустить
свежие побеги, подобно вешней зелени в саду; оно чувствует, что для него
настала пора одеться молодой листвой, может быть, расцвести, но бедняк не смеет
поддаваться обольщению, он обязан воззвать к благоразумию, которое своим холодным,
как северный ветер, дыханием заморозит это цветение.
– Что
же, в хижинах счастье невозможно?
– Видите
ли, я имею в виду не привычную бедность рабочего, но стесненное положение
человека в долгах. Образ промышленника, живущего в неослабной борьбе и напряжении,
изнемогающего от забот, всегда стоит перед моим взором.
– Забудьте
о своих тревогах, надейтесь на удачу; вас слишком неотвязно терзают одни и те
же мысли. Не сердитесь на мою смелость, но мне кажется, что ваше представление
о счастье не совсем правильно, так же как не совсем правильно, не совсем
справедливо…
Она
замялась.
– Я
слушаю вас внимательно.
– Ваше
обращение (смелее! Надо же сказать правду!), не отношение, а именно обращение
со здешними рабочими…
– Вам
давно хочется поговорить со мной об этом, Каролина?
– Давно.
– Я,
может быть, несколько суров с ними, но это оттого, что сам я человек
молчаливый, замкнутый, мрачный, а вовсе не от гордости. Да и мне ли гордиться в
моем положении?
– Но
ваши рабочие – это живые люди, а не бездушные предметы, как ваши станки и стригальные
машины. Со своими вы ведь совсем другой.
– Для
своих я не чужеземец, каким меня считают йоркширские мужланы. Я мог бы, конечно,
разыгрывать из себя доброжелателя, но притворство не мое forte.[48] Я считаю их неразумными
и тупыми; они чинят всевозможные препятствия на моем пути к успеху. Я обращаюсь
с ними по справедливости – как они того заслуживают.
– Тогда
трудно рассчитывать, что вы завоюете их расположение!
– Я
к этому и не стремлюсь.
– Увы!
Юная
наставница тяжело вздохнула и покачала головой; видно было, что ей очень
хочется в чем-то убедить своего кузена, но она бессильна это сделать. Склонив
голову над грамматикой, она принялась искать урок, заданный ей на сегодня.
– Боюсь,
что я не особенно добрый и привязчивый человек, Каролина. Мне достаточно
привязанности немногих.
– Роберт,
не будете ли вы так любезны очинить мне два-три перышка?
– Пожалуйста,
и вдобавок разлиную вам тетрадку, а то у вас строчки всегда ложатся косо… Вот
так… теперь давайте перья. Вам очинить их тонко?
– Как
вы всегда чините для меня и Гортензии; не с широкими концами, как для себя.
– Будь
я учителем, как Луи, я остался бы дома и посвятил бы все утро вам и вашим занятиям.
А мне придется провести весь день на складе шерсти Сайкса.
– Но
вы заработаете много денег.
– Скорее
потеряю их.
Когда он
кончил чинить перья, к калитке подвели оседланную и взнузданную лошадь.
– Вот
и Фред уже меня ждет, пора идти; посмотрю только, как в нашем садике
хозяйничает весна.
Он вышел
в сад. Там, у фабричной стены, на солнце расцветала ласкающая взгляд полоса
свежей зелени и цветов – подснежники, крокусы, даже примулы. Мур нарвал
букетик, вернулся в гостиную, достал из рабочей шкатулки сестры шелковинку,
перевязал его и положил на письменный стол перед Каролиной.
– Всего
хорошего!
– Спасибо,
Роберт, какая прелесть! На цветах словно сверкают еще отблески солнца и лазурного
неба! Всего хорошего!
Мур
направился к выходу. Внезапно он остановился в дверях, как бы собираясь что-то
сказать, но так ничего и не сказал; потом вышел за калитку и уже сел было на
лошадь и вдруг соскочил с седла, бросил поводья Мергатройду и вернулся в
комнату.
– Я
забыл взять перчатки, – заметил он, подойдя к столику у двери. Кстати, вас
ждут сегодня вечером какие-нибудь неотложные дела, Каролина? добавил он как бы
между прочим.
– У
меня их не бывает; я обещала, правда, связать детские носочки для
благотворительной корзинки по просьбе миссис Рэмсден, но это может подождать.
– Ох
уж эта корзинка!.. Название, правда, ей дано подходящее, нельзя и представить
себе ничего более благотворительного, чем ее вещицы и цены; по вашей лукавой
улыбке я вижу, что вы и сами это понимаете. Итак, забудьте о вашей корзинке и
оставайтесь на весь день у нас. Это немного развлечет вас, а дядюшка, надеюсь,
не заплачет в одиночестве?
Каролина
улыбнулась.
– Разумеется,
нет.
– Что
ему сделается, старому вояке! – пробормотал Мур. – Словом,
оставайтесь у нас; пообедаете с Гортензией, ей это будет приятно, а я вернусь
сегодня пораньше, и вечером мы почитаем вслух. Луна восходит в половине девятого,
и в девять я провожу вас домой. Согласны?
Она
кивнула головой, и глаза ее вспыхнули радостью.
Мур
помедлил еще немного. Он наклонился над письменным столом и заглянул в грамматику
Каролины, повертел в руках перо, затем букет; у ворот лошадь от нетерпения била
копытом; Мергатройд покашливал и крякал у калитки, недоумевая, что могло
задержать его хозяина.
– Всего
хорошего, – повторил Мур и наконец ушел.
Минут
десять спустя вошла Гортензия и очень удивилась, увидев, что Каролина даже не
раскрыла учебника.
|


