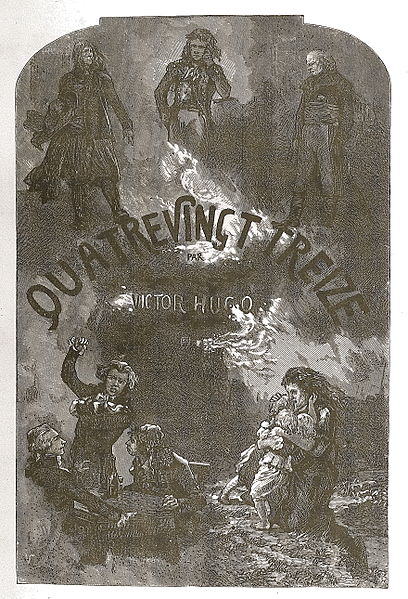
 Увеличить Увеличить |
Книга пятая
In daemone deus[420]
I. Найдены, но потеряны
В тот миг, когда Мишель Флешар заметила башню, позлащенную
лучами заходящего солнца, она находилась от нее на расстоянии полутора лье. И
хотя каждый шаг давался ей с трудом, она не колебалась ни минуты. Женщина
слаба, но силы матери неиссякаемы. Она двинулась дальше.
Солнце зашло за горизонт, вечерний сумрак сменился ночною
мглой; упорно шагая вперед, она услышала, как вдалеке на невидимой отсюда
колокольне пробило восемь, затем девять часов. Должно быть, это отбивали часы
на колокольне в Паринье. Время от времени она останавливалась и прислушивалась
к глухим ударам, которые, казалось, были смутным рокотом самой ночи.
И она все шла, ступая окровавленными ногами по колючкам и
острым камням. Мать шла теперь на слабый свет, исходивший от башни, которая
четко выступала из мрака, облитая таинственным мерцанием. И чем явственнее
доносились удары, тем ярче вспыхивал свет, тут же сменявшийся мглою.
На широком плоскогорье, по которому брела Мишель Флешар, не
было ни дерева, ни хижины, ничего, кроме травы и вереска; оно заметно подымалось
в гору, и его прямые резкие очертания тянулись далеко-далеко, сливаясь на
горизонте с темным, усеянным звездами небосводом. Путница шла с трудом, и лишь
вид башни, ни на минуту не скрывавшейся из глаз, поддерживал ее силы.
Башня медленно увеличивалась в размерах.
Глухие взрывы и белесые вспышки над башней, как мы уже
говорили, длились лишь мгновение, потом все пропадало, начиналось вновь, и для
безутешной матери в этом чередовании гула и тишины, света и тьмы таилась
мучительная загадка.
Вдруг все смолкло; стихли удары, потух свет; наступила
глубокая тишина; какой-то зловещий покой окутал все вокруг.
Как раз в эту минуту Мишель Флешар достигла края
плоскогорья.
Внизу лежал ров, дно которого скрывалось в ночном тумане,
чуть подальше, на верхней части плоскогорья, колеса, пушечные лафеты,
брустверы, амбразуры указывали на месторасположение батареи, а прямо, еле
освещенное тлеющими фитилями, вырисовывалось огромное здание, как бы высеченное
из самого мрака, но мрака еще более густого, еще более черного, чем тот, что
царил вокруг.
К зданию вел мост, арки которого своим основанием уходили на
дно рва, а за мостом, примыкая к замку, темной, круглой громадой высилась
башня, к которой из такого далека брела мать.
Огни факелов перебегали от окна к окну, и по доносившемуся
из башни гулу голосов нетрудно было догадаться, что там внутри собралось много
людей, человеческие фигуры вырисовывались даже на самой вышке.
Возле батареи расположился лагерь; Мишель Флешар различала
часовых, выставленных у палаток, а ее самое скрывала от них темнота и
кустарник.
Она подошла к самому краю плоскогорья и очутилась так близко
от моста, что, казалось, стоит только протянуть руку, чтобы коснуться его. Но
ее отделял от моста глубокий ров. В темноте обозначились все три этажа замка,
высившегося на мосту.
Сколько времени она простояла так – неизвестно, ибо время
перестало существовать для нее; молча, не отрывая взора от страшного зрелища,
смотрела она на зияющий под ногами ров и мрачное строение. Что это такое? Что
там происходит? Да и Тург ли это? У нее закружилась голова, как будто она ждала
чего-то и сама уже не знала, конец это пути или только начало его. Она с
удивлением спрашивала себя, зачем она очутилась здесь?
Она глядела, она слушала.
Вдруг она перестала видеть что-либо. Завеса дыма встала
между нею и тем, с чего она не спускала глаз. Она зажмурилась – так у нее
защипало глаза. Но, прикрыв веки, она ощутила их живой багрянец и неожиданную
прозрачность. И она снова открыла глаза.
Теперь уже не мрак ночи, а день окружал ее, но день безрадостный,
день, порожденный пламенем. На глазах у матери начинался пожар.
Черный дым стал вдруг пурпурным, приняв в себя отсветы огня;
огонь то заволакивало дымом, то он вырывался наружу неистовыми зигзагами,
которые под стать лишь молниям и змеям.
Пламя, словно язык, высовывалось из черной пасти, которая
была не чем иным, как провалом окна. Окно, забранное железной решеткой, прутья
которой уже раскалились докрасна, помещалось в ряду других окон нижнего этажа
замка, построенного на мосту. Из всего здания теперь видно было лишь одно это
окно. Все вокруг, даже плоскогорье, обволакивал дым, и только край оврага
черной линией выделялся на фоне багрового зарева.
Мишель Флешар в изумлении глядела на пожар. Клубы дыма были
словно облако, словно сонная греза; она не понимала того, что видели ее глаза.
Бежать прочь? Остаться здесь? Ей казалось, что она уже переступила порог
реального мира.
Налетевший порыв ветра разодрал завесу дыма, и в разрыве
внезапно открылась вся целиком трагическая цитадель – с башней, замком, мостом,
ослепляющая, страшная, в великолепной позолоте пожара, игравшей на ней от
подножья до кровли. При свете зловещего пламени все предстало перед Мишель
Флешар с поразительной четкостью.
Нижний этаж замка, построенного у моста, пылал.
Пламя еще не коснулось двух верхних этажей, и они, казалось,
были вознесены в небо в пурпурной корзине огня. С края плоскогорья, где стояла
Мишель Флешар, можно было различить внутренность комнат в те краткие минуты,
когда отступали огонь и дым. Все окна были открыты настежь.
В широкие окна второго этажа Мишель Флешар заметила стоящие
у стен шкафы и как будто различала в них книги, а прямо на полу напротив одного
из окон какое-то темное пятно, вернее кучку каких-то предметов, нечто,
напоминавшее гнездо или выводок птенцов, и это «нечто» временами шевелилось.
Она пристально вглядывалась.
Что это за комочек теней?
Мгновениями ей приходило в голову, что эти тени похожи на
живые существа. Ее била лихорадка, она ничего не ела с самого утра, она шла
пешком весь день без отдыха, она с трудом держалась на ногах; она чувствовала,
что у нее начинается бред, и поэтому инстинктивно не доверяла самой себе; и все
же она не могла отвести взгляда, становившегося все напряженней, от этой кучки
неизвестных предметов, судя по всему неодушевленных и лежавших неподвижно на
паркете залы, как бы поднятой над линией пожара.
Вдруг огонь, словно наделенный волей, послал длинный язык
пламени в направлении засохшего плюща, обвивавшего весь фасад замка, на который
смотрела Мишель Флешар. Казалось, пламя только сейчас обнаружило эту сетку
мертвых ветвей; сначала всего лишь одна искра жадно прильнула к ним и начала
карабкаться по побегам плюща с той грозной быстротой, с какой бежит огонь по
пороховой дорожке. В мгновение ока пламя достигло третьего этажа, и тогда оно
сверху осветило внутренность второго этажа. Яркий свет озарил комнату и
выхватил из мрака три спящие крохотные фигурки.
Очаровательная картина! Прижавшись друг к дружке, сплетясь
ручками и ножками, спали спокойным детским сном три белокурых ангелочка и
улыбались во сне.
Мать узнала своих детей.
Она испустила душераздирающий крик.
Только в материнском крике может звучать такое невыразимое
отчаяние. Как дик и трогателен этот вопль! Когда его испускает женщина,
кажется, что воет волчица, когда воет волчица, кажется, что стенает мать.
Крик Мишель Флешар был подобен вою. Гекуба взлаяла, –
говорит Гомер.
Этот-то крик и достиг ушей маркиза де Лантенака.
И, как мы знаем, Лантенак остановился.
Он стоял между потайным выходом, через который его провел
Гальмало, и рвом. Сквозь ветви кустарника, переплетавшиеся над его головой, он
видел охваченный огнем мост, весь красный от зарева Тург и, раздвинув ветви,
заметил вверху, на противоположной стороне рва, на самом краю плоскогорья,
напротив пылающего замка, где было светло, как днем, жалкую и страшную фигуру
женщины, склонившуюся над бездной.
Эта женщина и закричала так страшно.
Впрочем, сейчас то была уже не Мишель Флешар, то была
Горгона. Поверженные так же страшны, как отверженные. Простая крестьянка
превратилась в Эвмениду. Темная, невежественная, грубоватая поселянка вдруг
поднялась до эпических высот отчаяния. Великие страдания мощно преобразуют
души; эта мать стала воплощением самого материнства; то, что вмещает в себе все
человеческое, становится уже сверхчеловеческим: Она возникла здесь, на краю
оврага, перед бушующим пламенем пожара, перед этим преступлением, как гробовое
видение; она выла, как зверь, но движения ее были движениями богини; ее
скорбные уста слали проклятия, а лицо казалось огненной маской. Что сравнится в
царственном величии со взором матери, увлажненным слезами, мечущим молнии; ее
взгляд испепелял само пожарище.
Маркиз прислушался. Поток ее жалоб низвергался вниз, прямо
на него. Он слышал бессвязные речи, раздирающие душу выкрики, слова, подобные
рыданиям.
– Ах, господи боже ты мой! Дети, дети! Ведь это мои
дети! На помощь! Пожар! Пожар! Так, значит, вы все разбойники? Неужели там
никого нет? Сгорят, слышите, сгорят! Жоржетта, детки мои! Гро-Алэн, Рене-Жан!
Да где же это видано! Кто запер там моих детей? Они ведь спят. Да нет, я с ума
сошла. Разве такое бывает? Помогите!
Тем временем вокруг башни на плоскогорье поднялось движение.
Когда занялся пожар, сбежался весь лагерь. Нападающие, только что встретившиеся
с картечью, встретились теперь с огнем. Говэн, Симурдэн, Гешан отдавали
приказание. Но что можно было сделать? Ручеек, бежавший по дну оврага, совсем
пересох, там не наберешь и десяти ведер воды. Всех охватил ужас. По всему краю
плоскогорья стояли люди, обратив испуганные лица в сторону пожара.
Зрелище, открывшееся их взорам, было поистине страшным.
Люди смотрели и ничем не могли помочь.
Пламя, пробежав по веткам плюща, перекинулось в верхний
этаж. Там ему нашлась богатая пожива – целый чердак, набитый соломой. Теперь
пылал чердак. Вокруг плясали языки пламени; ликование огня – ликование
зловещее. Казалось, дыхание самого зла раздувает этот костер. Словно чудовищный
Иманус вдруг обернулся вихрем искр, слив свою жизнь со смертоносной жизнью
огня, а его звериная душа стала душою пламени. Второй этаж, где помещалась
библиотека, был еще не тронут огнем, – толстые стены и высокие потолки
отсрочили миг его вторжения, но роковая минута неотвратимо приближалась; его
уже лизали языки пламени, подбиравшегося снизу, и ласкал огонь, бежавший сверху.
Его уже коснулось неумолимое лобзание смерти. Внизу, в подвале, – огненная
лава, наверху, под сводами, – пылающий костер; прогорит хоть в одном месте
пол библиотеки – и все рухнет в огненную пучину; прогорит потолок – и все
погребут под собой раскаленные угли. Рене-Жан, Гро-Алэн и Жоржетта еще не
проснулись, они спали глубоким и безмятежным сном детства, и сквозь волны огня
и дыма, то окутывавшие окна, то уносившиеся прочь, было видно, как в огненном
гроте, в сиянии, равном сиянию метеора, мирно спят трое ребятишек, прелестные,
как три младенца Иисуса, доверчиво спящие в аду; и тигр пролил бы слезы при
виде этих лепестков розы, брошенных в горнило, этого детского ложа в огненном
склепе.
Мать в отчаянье ломала руки.
– Пожар! Пожар! Спасите! Да что же вы все оглохли, что
ли? Почему никто не спешит им на помощь? Там ведь моих детей жгут! Да помогите
же, вон сколько вас тут! Я много дней шла, я две недели шла, и вот, когда я до
них, наконец, добралась, видите, что случилось. Пожар! Спасите! Ангелочки ведь!
Ведь это же ангелочки! Чем они провинились, невинные крошки? Собаку и ту
пожалели бы. Детки мои, детки спят там. Жоржетта, вон сами посмотрите,
разбросалась маленькая, животик у нее голенький. Рене-Жан! Гро-Алэн – ведь их
Рене-Жан и Гро-Алэн зовут! Вы же видите, что я их мать. Что же это творится?
Какие времена настали! Я шла дни и ночи. Даже еще сегодня утром я говорила с
одной женщиной… На помощь! Спасите! Да это не люди, а чудовища какие-то!
Злодеи! Ведь старшенькому-то всего пять лет, а меньшой и двух нету. Вон смотрите,
какие у них ножки – босонькие. Спят, святая дева Мария! Рука всевышнего вернула
их мне, а рука сатаны отняла. Подумать только, сколько времени я шла! Дети мои,
дети, я ведь вскормила их собственным молоком!.. Да как же это?.. А я-то еще
считала, что не будет хуже горя, если я их не найду! Сжальтесь надо мной!
Верните мне моих детей! Посмотрите, ноги мои все в ссадинах, в крови, столько я
шла! На помощь! Ни за что не поверю, что люди дадут несчастным крошкам
погибнуть в огне. На помощь, люди! На помощь! Да разве может такое на земле
случиться? Ах, разбойники! Да что это за дом такой страшный? У меня украли
детей, чтобы их убить. Иисусе милостивый, верни мне моих детей! Я все, все
готова сделать, только бы их спасти. Не хочу, чтобы они умирали! На помощь!
Спасите! Спасите! О, если б я знала, что им так суждено погибнуть, я бы самого
бога убила.
Грозные мольбы матери покрывал громкий гул голосов,
подымавшихся с плоскогорья и из оврага:
– Лестницу!
– Нет лестницы.
– Воды.
– Нет воды!
– В башне на третьем этаже есть дверь.
– Железная она.
– Так взломаем ее!
– До нее не достать.
А мать взывала с новой силой:
– Пожар! Спасите! Да торопитесь же вы! Скорее! Спасите
или уж убейте меня. Мои дети! Мои дети! Ах, треклятый огонь, пусть их вынесут
оттуда или пусть меня в огонь бросят.
И когда на мгновенье замолкал плач матери, слышалось
деловитое потрескивание огня.
Маркиз опустил руку в карман и нащупал ключ от железной
двери. Затем, пригнувшись, он снова вступил под своды подземелья, через которое
выбрался на свободу, и пошел обратно к башне, откуда он только что бежал.
II. От каменной двери до двери железной
Целая армия, парализованная невозможностью действовать,
четыре с половиной тысячи человек, бессильные спасти трех малюток, –
таково было положение дел.
Лестницы действительно не оказалось; лестница, отправленная
из Жавенэ, не дошла до места назначения; пламя ширилось, словно из кратера
выливалась огненная лава; пытаться затушить его, черпая воду из пересохшего
ручейка, бегущего по дну оврага, было столь же нелепо, как пытаться залить
извержение вулкана стаканом воды.
Симурдэн, Гешан и Радуб спустились в овраг; Говэн поднялся в
залу, расположенную в третьем ярусе башни Тург, где находился вращающийся
камень, прикрывавший потайной ход, и железная дверь, ведущая в библиотеку. Как
раз здесь поджег Иманус пропитанный серою шнур, отсюда и распространилось по
замку пламя.
Говэн привел с собой двадцать саперов. Оставалась
единственная надежда – взломать железную дверь. Засовы ее были сработаны на
редкость искусно.
Саперы для начала пустили в ход топоры. Топоры сломались.
Кто-то из саперов заметил:
– Против этой двери любая сталь – стекло.
И верно, дверь была из кованого железа. Да еще обшита
двойными металлическими полосами в три дюйма толщины.
Решили взять железные брусья и, подсунув их под дверь,
налечь на них; железные брусья тоже сломались.
– Как спички, – заметил тот же сапер.
Говэн мрачно проговорил:
– Только ядром и можно пробить эту дверь. Попытаться
разве вкатить сюда пушку?
– Не поможет! – вздохнул сапер.
Наступила минута горького унынья. Все в отчаянии бессильно
опустили руки. Молча, безнадежно, как побежденные, смотрели они на эту страшную
железную дверь. В узенькую щелку под ней пробивался багровый отблеск. А за
дверью бушевал огонь.
Страшный труп Имануса справлял здесь свою зловещую победу.
Еще несколько минут, и все пропало.
Что делать? Никакой надежды на спасение нет.
Глядя на отодвинутый камень, за которым зиял потайной ход,
Говэн воскликнул в отчаянье:
– Но ведь маркиз де Лантенак ушел по этому ходу.
– И по нему же вернулся, – раздался чей-то голос.
И в каменной рамке потайного хода показалась среброволосая
голова.
Это был маркиз.
Многие годы Говэн не видел его так близко, как сейчас, и
невольно отступил назад.
Да и все присутствующие замерли, окаменев в тех позах, в
которых их застало неожиданное появление маркиза.
В руках маркиз держал огромный ключ; высокомерным взглядом
он словно отодвинул от себя саперов, стоявших на его пути, подошел к железной
двери, наклонился и вставил ключ в замочную скважину. Ключ заскрипел, дверь
отворилась, за ней открылась огненная бездна. Маркиз вступил в нее.
Вступил твердой стопой, не склонив головы.
Все с трепетом следили за ним.
Не успел маркиз сделать несколько шагов по охваченной
пламенем зале, как вдруг паркет, подточенный огнем, дрогнул под пятой человека
и рухнул вниз, так что между дверью и маркизом легла пропасть. Но он даже не
обернулся и продолжал идти вперед. Скоро он исчез в клубах дыма.
Больше ничего не было видно.
Удалось ли маркизу добраться до цели? Не разверзлась ли под
его ногами новая бездна пламени? Значит, он пошел навстречу верной гибели?
Никто не мог ответить на этот вопрос. Перед Говэном и саперами стояла сплошная
стена дыма и огня. А по ту сторону ее был маркиз, живой или мертвый.
III. В которой спящие дети просыпаются
Тем временем дети все-таки открыли глаза.
Пламя, обходившее пока стороной библиотечную залу,
окрашивало весь потолок в розоватые тона. Впервые дети видели такую странную
зарю и внимательно глядели на нее. Жоржетта вся погрузилась в созерцание.
Пожар разворачивал перед ними все свое великолепие. В
бесформенных клубах дыма, роскошно окрашенных в бархатисто-темные и пурпуровые
цвета, то появлялись, то исчезали черные драконы и алые гидры. Искры, пролетая
в воздухе, оставляли за собой длинный огненный след, и казалось, что это
гонятся друг за другом враждующие кометы. Огонь по своей природе расточитель:
любой костер беспечно пускает на ветер целые алмазные россыпи, ведь не случайно
алмаз – близкий родич углю. Стены третьего этажа местами прогорели, и из
образовавшихся брешей огонь щедро сыпал в овраг каскады драгоценных камней;
солома и овес, пылавшие на чердаке, заструились из всех окон дождем золотой
пыли, горящие зерна овса вдруг начинали сиять аметистами, а соломинки
превращались в рубины.
– Кьясиво! – заявила Жоржетта.
Все трое ребятишек приподнялись.
– Ах! они просыпаются! – закричала мать.
Рене-Жан встал на ноги, затем встал Гро-Алэн, затем
поднялась Жоржетта.
Рене-Жан потянулся, подошел к окну и сказал:
– Мне жарко!
– Зяйко! – повторила Жоржетта.
Мать окликнула их:
– Дети! Рене! Алэн! Жоржетта!
Дети огляделись вокруг. Они старались понять. Там, где
взрослого охватывает ужас, ребенок испытывает только любопытство. Кто легко
удивляется, пугается с трудом; неведение полно отваги. Дети так не заслуживают
ада, что даже при виде пламени преисподней пришли бы в восторг.
Мать крикнула снова:
– Рене! Алэн! Жоржетта!
Рене-Жан обернулся; голос привлек его внимание; у детей
короткая память, зато вспоминают они быстрее взрослых; вчерашний день – все их
прошлое; Рене-Жан увидел мать, счел ее появление вполне естественным, а так как
кругом творились какие-то странные вещи, он хоть и смутно, но почувствовал
необходимость в чьей-то поддержке и крикнул:
– Мама!
– Мама! – повторил Гро-Алэн.
– Мам! – повторила Жоржетта. И протянула к матери
ручонки.
Мать закричала раздирающим голосом:
– Мои дети!
Все трое подбежали к окну; к счастью, пламя бушевало с
противоположной стороны.
– Ой, как жарко, – сказал Рене-Жан. И добавил: –
Жжется!
Он стал искать глазами свою мать.
– Мама, иди сюда.
– Мам, иди! – повторила Жоржетта.
Мать с разметавшимися по плечам волосами, в разодранном
платье, с окровавленными ногами бросилась, не помня себя, вниз по откосу
оврага, цепляясь за ветки кустарника. Там стояли Симурдэн с Гешаном, и тут
внизу, в овраге, они были столь же бессильны, как Говэн наверху, в зеркальной
зале. Солдаты, в отчаянии от собственной бесполезности, теснились вокруг них.
Жара была непереносимая, но никто этого не ощущал. Они учли все – наклон обрыва
у моста, высоту арок, расположение этажей и окон, недоступных для человека, а
также и необходимость действовать быстро. Но как преодолеть три этажа? Нет
никакой возможности туда добраться. Весь в поту и крови, подбежал раненый
Радуб, – сабля рассекла ему плечо, пуля почти оторвала ухо; он увидел
Мишель Флешар.
– Эге! – сказал он. – Расстрелянная, вы,
значит, воскресли?
– Дети, – вопила мать.
– Правильно, – ответил Радуб, – сейчас не
время заниматься привидениями.
И он начал карабкаться на мост. Увы, попытка оказалась безуспешной.
Обломав о каменную стену все ногти, он поднялся лишь на небольшую высоту; устои
моста были гладкие, как ладонь, без трещинки, без выступа; камни были
подогнаны, как в новой кладке, и Радуб сорвался. Пожар продолжал бушевать,
наводя ужас на окружающих; в пламенеющем квадрате окна ясно виднелись три
белокурые головки. Тогда Радуб погрозил кулаком небу и, впившись в него взором,
словно ища там виновника, произнес:
– Так вот каковы твои дела, милосердный господь!
Мать упала на колени и, охватив руками каменный устой моста,
молила:
– Помогите!
Потрескивание горящих балок сопровождалось гудением огня.
Стекла в библиотечных шкафах лопались и со звоном падали на пол. Было ясно, что
перекрытия замка сдают. Не в силах человека было предотвратить катастрофу. Еще
минута, и все рухнет. Ждать оставалось одного – страшной развязки. А тоненькие
голоса звали: "Мама, мама!" Ужас достиг предела.
Вдруг в окне, по соседству с тем, возле которого стояли
дети, на пурпуровом фоне пламени возникла высокая человеческая фигура.
Все подняли вверх голову, все впились взглядом в окно.
Какой-то человек был там, наверху, какой-то человек проник в библиотечную залу,
какой-то человек вошел в самое пекло. На фоне огня его фигура выделялась резким
черным силуэтом, только волосы были седые. Все сразу узнали маркиза де
Лантенака.
Он исчез, затем появился вновь.
Грозный старик высунулся из окна, держа в руках длинную
лестницу.
Это была та самая спасательная лестница, которую
заблаговременно убрали в библиотеку, положили у стены, а маркиз подтащил к
окну. Он схватил лестницу за конец, с завидной легкостью атлета перекинул ее
через оконницу и стал осторожно спускать вниз, на дно рва. Радуб, стоявший во
рву, не помня себя от радости, протянул руки, принял лестницу и закричал:
– Да здравствует Республика!
Маркиз ответил:
– Да здравствует король!
– Кричи все, что тебе вздумается, любые глупости кричи.
Все равно ты сам господь бог, – проворчал Радуб.
Лестницу приставили к стене; между землей и горящим зданием
установилось сообщение; двадцать человек во главе с Радубом бросились к
лестнице и в мгновение ока заняли все перекладины с низу до самого верха,
наподобие каменщиков, которые передают вверх на стройку или спускают вниз
кирпичи. На деревянной лестнице выросла вторая живая лестница из человеческих
тел. Радуб, взобравшийся на самую верхнюю ступеньку, оказался у окна, лицом к
лицу с пламенем.
Солдаты маленькой армии, волнуемые самыми разнообразными
чувствами, теснились кто в зарослях вереска, кто на откосах рва, кто на
плоскогорье, а кто и на вышке башни.
Маркиз опять исчез, затем показался в окне, держа на руках
ребенка.
Его приветствовали оглушительными рукоплесканиями.
Маркиз схватил первого, кто подвернулся ему под руку. Это
оказался Гро-Алэн.
Гро-Алэн закричал:
– Боюсь!
Маркиз передал Гро-Алэна Радубу, который в свою очередь
передал его солдату, стоявшему ниже, а тот таким же образом передал следующему,
и пока перепуганный плачущий Гро-Алэн переходил из рук в руки, маркиз снова
исчез и через секунду появился у окна, держа на руках Рене-Жана, который
плакал, отбивался и успел ударить Радуба, когда маркиз подавал ему малыша.
Маркиз в третий раз скрылся в зале, куда уже ворвалось
пламя. Там оставалась одна Жоржетта. Лантенак подошел к ней. Она улыбнулась. И
этот человек, будто высеченный из гранита, почувствовал вдруг, что глаза его
увлажнились. Он спросил:
– Как тебя зовут?
– Зойзета, – ответила она.
Маркиз взял Жоржетту на руки, она все улыбалась, и в ту
минуту, когда Радуб уже принимал малютку из рук маркиза, душа этого старика,
столь высокомерного и столь мрачного, внезапно озарилась восторгом перед
детской невинностью, и он поцеловал ребенка.
– Вот она, наша крошка! – кричали солдаты.
Жоржетту тем же путем снесли с лестницы, и она очутилась на земле под крики
обожания. Люди хлопали в ладоши, стучали ногами; седые гренадеры плакали, а она
улыбалась им.
Мать стояла внизу у лестницы, задыхаясь от волнения, уже
ничего не сознавая, опьяненная этим нежданным счастьем, разом вознесенная из
мрака преисподней в светлый рай. Избыток радости по-своему ранит сердце. Она
протянула руки, схватила сначала Гро-Алэна, затем Рене-Жана, наконец Жоржетту,
осыпала их поцелуями, потом захохотала диким смехом и лишилась чувств.
Со всех концов слышались громкие крики:
– Все спасены!
И впрямь, все, кроме старика маркиза, были спасены.
Но никто не думал о нем, возможно и сам он тоже.
Несколько мгновений он задумчиво стоял на подоконнике,
словно ждал, чтобы огонь сказал свое последнее слово. Потом, не торопясь,
перешагнул через подоконник и, не оборачиваясь, медленно и величаво, прямой и
словно застывший, стал спускаться по лестнице спиной к бушующему пламени, среди
общего молчания, торжественно, как призрак. Те, кто еще замешкались на
лестнице, быстро скатывались вниз, все почувствовали трепет и расступались в
священном ужасе перед этим человеком, будто перед сверхъестественным видением.
А он тем временем горделиво спускался в подстерегавший его мрак; они отступали,
а он приближался к ним; ничто не дрогнуло в его бледном, словно из мрамора
изваянном лице; в его недвижном, как у привидения, взгляде не промелькнуло ни
единой искорки чувства; при каждом шаге, который приближал его к людям,
смотревшим на него из темноты, он казался выше, лестница сотрясалась и скрипела
под его тяжелой стопой, – казалось, это статуя командора сходит в свою
гробницу.
Когда маркиз спустился, когда он достиг последней ступеньки
и уже поставил ногу на землю, чья-то рука легла на его плечо. Он обернулся.
– Я арестую тебя, – сказал Симурдэн.
– Я одобряю тебя, – сказал Лантенак.
|


