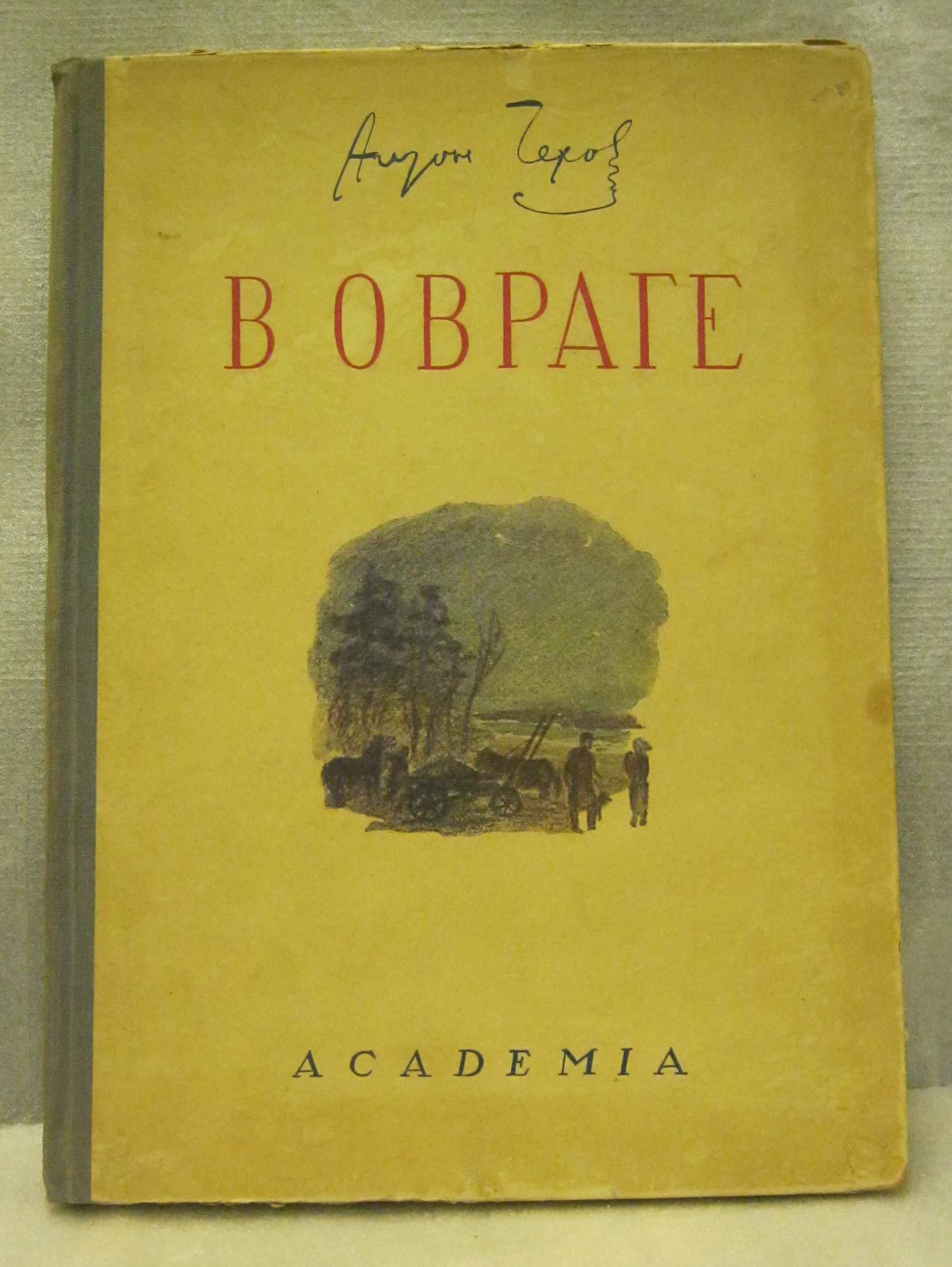
 Увеличить Увеличить |
V
8 июля,
в пятницу, Елизаров, по прозванию Костыль, и Липа возвращались из села Казанского,
куда они ходили на богомолье, по случаю храмового праздника – Казанской божией
матери. Далеко позади шла мать Липы Прасковья, которая всё отставала, так как
была больна и задыхалась. Время было близко к вечеру.
– А-аа!.. –
удивлялся Костыль, слушая Липу. – А-а!.. Ну-у?
– Я,
Илья Макарыч, до варенья очень охотница, – говорила Липа. – Сяду себе
в уголочке и всё чай пью с вареньем. Или с Варварой Николавной вместе пьем, а
оне что-нибудь рассказывают чувствительное. У них варенья много – четыре банки.
«Кушай, говорят, Липа, не сомневайся».
– А-аа!..
Четыре банки!
– Богато
живут. Чай с белой булкой; и говядины тоже сколько хочешь. Богато живут, только
страшно у них, Илья Макарыч. И-и, как страшно!
– Чего
ж тебе страшно, деточка? – спросил Костыль и оглянулся, чтобы посмотреть,
далеко ли отстала Прасковья.
– Первое,
как свадьбу сыграли, Анисима Григорьича боялась. Они ничего, не обижали, а
только, как подойдут ко мне близко, так по всей по мне мороз, по всем
косточкам. И ни одной ноченьки я не спала, всё тряслась и бога молила. А теперь
Аксиньи боюсь, Илья Макарыч. Она ничего, всё усмехается, а только часом
взглянет в окошко, а глазы у ней такие сердитые и горят зеленые, словно в хлеву
у овцы. Хрымины Младшие ее сбивают: «У вашего старика, говорят, есть землица
Бутёкино, десятин сорок, землица, говорят, с песочком и вода есть, так ты,
говорят, Аксюша, построй от себе кирпичный завод, и мы в долю войдем». Кирпич
теперь двадцать рублей тысяча. Дело спорое. Вчерась за обедом Аксинья и говорит
старику: «Я, говорит, хочу в Бутёкине кирпичный завод ставить, буду сама себе
купчиха». Говорит и усмехается. А Григорий Петрович с лица потемнели; видно, не
понравилось. «Пока, говорят, я жив, нельзя врозь, надо всем вместе». А она
глазами метнула, зубами заскриготела… Подали оладьи – не ест!
– А-аа!.. –
удивился Костыль. – Не ест!
– И
скажи, сделай милость, когда она спит! – продолжала Липа. – С
полчасика поспит, а там вскочит, ходит, всё ходит, заглядывает: не сожгли б
чего мужики, не украли б чего… Страшно с ней, Илья Макарыч! А Хрымины Младшие
после свадьбы и спать не ложились, а поехали в город судиться; и народ болтает,
будто через Аксинью всё. Два брата пообещались ей завод построить, а третий
обижается, а фабрика с месяц стояла, и мой дяденька Прохор без работы по дворам
корочки сбирал. Ты бы, говорю, дяденька, пока что, пахать пошел или дрова пилить,
что срамиться! «Отбился, говорит, я от хрестианской работы, ничего, говорит, не
умею, Липынька!..»
Около
молодой осиновой рощицы остановились, чтобы отдохнуть, подождать Прасковью.
Елизаров давно уже был подрядчиком, но не держал лошади, а ходил по всему уезду
пешком, с одним мешочком, в котором были хлеб и лук, и шагал широко, размахивая
руками. И идти с ним рядом было трудно.
У входа
в рощу стоял межевой столб. Елизаров потрогал его: прочен ли. Подошла Прасковья,
задыхаясь. Ее сморщенное, всегда испуганное лицо сияло счастьем: она была
сегодня в церкви, как люди, потом ходила по ярмарке, пила там грушевый квас! С
ней это бывало редко, и даже ей казалось теперь, будто она жила в свое
удовольствие сегодня первый раз в жизни. Отдохнувши, все трое пошли рядом.
Солнце уже заходило, и его лучи проникали сквозь рощу, светились на стволах.
Впереди гулко раздавались голоса. Уклеевские девушки давно ушли вперед, но
задержались тут в роще: вероятно, подбирали грибы.
– Эй,
девки-и! – кричал Елизаров. – Эй, красотки!
В ответ
слышался смех.
– Костыль
идет! Костыль! Старый хрен!
И эхо
тоже смеялось. Вот и роща осталась позади. Видны уже были верхушки фабричных
труб, сверкнул крест на колокольне: это было село, «то самое, где дьячок на
похоронах всю икру съел». Вот почти уже и дома; оставалось только спуститься в
этот большой овраг. Липа и Прасковья, которые шли босиком, сели на траву, чтобы
обуться; с ними сел и подрядчик. Если взглянуть сверху, то Уклеево со своими
вербами, белой церковью и речкой казалось красивым, тихим, и мешали только
крыши фабричные, выкрашенные из экономии в мрачный, дикий цвет. Видна была на
той стороне по скату рожь – и копны, и снопы там, сям, точно раскиданные бурей,
и только что скошенная, в рядах; и овес уже поспел и теперь на солнце
отсвечивал, как перламутр. Была страда. Сегодня праздник, завтра, в субботу,
убирать рожь, возить сено, а потом воскресенье, опять праздник; каждый день
погромыхивал дальний гром; парило, похоже было на дождь, и, глядя теперь на
поле, каждый думал о том, дал бы бог вовремя убраться с хлебом, и было весело и
радостно, и непокойно на душе.
– Косари
нынче дороги, – сказала Прасковья. – Рубль сорок в день!
А с
ярмарки из Казанского народ всё шел и шел; бабы, фабричные в новых картузах, нищие,
ребята… То проезжала телега, поднимая пыль, и позади бежала непроданная лошадь,
и точно была рада, что ее не продали, то вели за рога корову, которая
упрямилась, то опять телега, а в ней пьяные мужики, свесив ноги. Одна старуха
вела мальчика в большой шапке и в больших сапогах; мальчик изнемог от жары и
тяжелых сапог, которые не давали его ногам сгибаться в коленях, но всё же изо
всей силы, не переставая, дул в игрушечную трубу; уже спустились вниз и
повернули в улицу, а трубу всё еще было слышно.
– А
наши фабриканты что-то не в себе… – сказал Елизаров. – Беда! Костюков
осерчал на меня. «Много, говорит, тесу пошло на карнизы». Как много? Сколько
надо было, Василий Данилыч, столько, говорю, и пошло. Я его не с кашей ем,
тес-то. «Как, говорит, ты можешь мне такие слова? Болван, такой-сякой! Не
забывайся! Я, кричит, тебя подрядчиком сделал!» Эка, говорю, невидаль! Когда,
говорю, не был в подрядчиках, всё равно каждый день чай пил. «Все, говорит, вы
жулики…» Я смолчал. Мы на этом свете жулики, думаю, а вы на том свете будете жулики.
Хо-хо-хо! На другой день отмяк. «Ты, говорит, на меня не гневайся, Макарыч, за
мои слова. Ежели, говорит, я что лишнее, так ведь и то сказать, я купец первой
гильдии, старше тебя, – ты смолчать должен». Вы, говорю, купец первой
гильдии, а я плотник, это правильно. И святой Иосиф, говорю, был плотник. Дело
наше праведное, богоугодное, а ежели, говорю, вам угодно быть старше, то
сделайте милость, Василий Данилыч. А потом этого, после, значит, разговору, я и
думаю: кто же старше? Купец первой гильдии или плотник? Стало быть, плотник,
деточки!
Костыль
подумал и добавил:
– Оно
так, деточки. Кто трудится, кто терпит, тот и старше.
Солнце
уже зашло, и над рекой, в церковной ограде и на полянах около фабрик поднимался
густой туман, белый, как молоко. Теперь, когда быстро наступала темнота,
мелькали внизу огни и когда казалось, что туман скрывает под собой бездонную
пропасть, Липе и ее матери, которые родились нищими и готовы были прожить так
до конца, отдавая другим всё, кроме своих испуганных, кротких душ, – быть
может, им примерещилось на минуту, что в этом громадном, таинственном мире, в
числе бесконечного ряда жизней и они сила, и они старше кого-то; им было хорошо
сидеть здесь наверху, они счастливо улыбались и забыли о том, что возвращаться
вниз все-таки надо.
Наконец
вернулись домой. У ворот и около лавки сидели на земле косари. Обыкновенно свои
уклеевские не шли к Цыбукину работать, и приходилось нанимать чужих, и теперь
казалось в потемках, что сидят люди с длинными черными бородами. Лавка была
отперта, и видно было в дверь, как глухой играл с мальчиком в шашки. Косари
пели тихо, чуть слышно, или громко просили отдать им за вчерашний день, но им
не платили, чтобы они не ушли до завтра. Старик Цыбукин, без сюртука, в
жилетке, и Аксинья у крыльца под березой пили чай; и горела на столе лампа.
– Дедушка-а! –
говорил за воротами косарь, как бы дразня. – Заплати хоть половину! Дедушка-а!
И тотчас
же слышался смех, а потом опять пели чуть слышно… Костыль сел тоже чай пить.
– Были
мы, значит, на ярмарке, – начал он рассказывать. – Гуляли, деточки,
очень хорошо гуляли, слава тебе господи. И случай такой вышел, нехороший:
кузнец Сашка купил табаку и дает полтинник, значит, купцу. А полтинник
фальшивый, – продолжал Костыль и оглянулся; ему хотелось говорить шёпотом,
но говорил он придушенным, сиплым голосом, и всем было слышно. – А
полтинник, выходит, фальшивый. Спрашивают: где взял? А это, говорит, мне Анисим
Цыбукин дал. Когда, говорит, я у него на свадьбе гулял… Кликнули урядника,
повели… Гляди, Петрович, как бы чего не вышло, какого разговору…
– Дедушка-а! –
дразнил всё тот же голос за воротами. – Дедушка-а!
Наступило
молчание.
– Ах,
деточки, деточки, деточки… – быстро забормотал Костыль и встал; его
одолевала дремота. – Ну, спасибо за чай, за сахар, деточки. Пора и спать.
Стал уж я трухлявый, балки во мне все подгнили. Хо-хо-хо!
И,
уходя, он сказал:
– Умирать,
должно, пора!
И
всхлипнул. Старик Цыбукин не допил своего чаю, но еще посидел, подумал; и выражение
у него было такое, будто он прислушивался к шагам Костыля, бывшего уже далеко
на улице.
– А
Сашка-кузнец, чай, наврал, – сказала Аксинья, угадав его мысли.
Он пошел
в дом и немного погодя вернулся со свертком; развернул – и блеснули рубли, совершенно
новые. Он взял один, попробовал на зуб, бросил на поднос; потом бросил другой…
– Рубли-то
взаправду фальшивые… – проговорил он, глядя на Аксинью и точно недоумевая. –
Это те… Анисим тогда привез, его подарок. Ты, дочка, возьми, – зашептал он
и сунул ей в руки сверток, – возьми, брось в колодец… Ну их! И гляди, чтоб
разговору не было. Чего бы не вышло… Убирай самовар, туши огонь…
Липа и
Прасковья, сидевшие в сарае, видели, как один за другим погасли огни; только
наверху у Варвары светились синие и красные лампадки, и оттуда веяло покоем,
довольством и неведением. Прасковья никак не могла привыкнуть к тому, что ее
дочь выдана за богатого, и когда приходила, то робко жалась в сенях, улыбалась
просительно, и ей высылали чаю и сахару. И Липа тоже не могла привыкнуть, и
после того, как уехал муж, спала не на своей кровати, а где придется – в кухне
или сарае, и каждый день мыла полы или стирала, и ей казалось, что она на
поденке. И теперь, вернувшись с богомолья, они пили чай в кухне с кухаркой,
потом пошли в сарай и легли на полу между санями и стенкой. Было тут темно,
пахло хомутами. Около дома погасли огни, потом слышно было, как глухой запирал
лавку, как косари располагались на дворе спать. Далеко, у Хрыминых Младших,
играли на дорогой гармонике… Прасковья и Липа стали засыпать.
И когда
их разбудили чьи-то шаги, было уже светло от луны; у входа в сарай стояла Аксинья,
держа в руках постель.
– Тут,
пожалуй, прохладней… – проговорила она, потом вошла и легла почти у самого
порога, и луна освещала ее всю.
Она не
спала и тяжко вздыхала, разметавшись от жары, сбросив с себя почти всё – и при
волшебном свете луны какое это было красивое, какое гордое животное! Прошло
немного времени и послышались опять шаги: в дверях показался старик, весь
белый.
– Аксинья! –
позвал он. – Ты здесь, что ли?
– Ну! –
отозвалась она сердито.
– Я
тебе давеча сказал, чтоб бросила деньги в колодец. Ты бросила?
– Вот
еще, добро в воду бросать! Я косарям отдала…
– Ах,
боже мой! – проговорил старик в изумлении и в испуге. – Озорная ты
баба… Ах, боже мой!
Он
всплеснул руками и ушел и, пока шел, всё что-то приговаривал. А немного погодя
Аксинья села и вздохнула тяжело, с досадой, лотом встала и, забрав в охапку
свою постель, вышла.
– И
зачем ты отдала меня сюда, маменька! – проговорила Липа.
– Замуж
идти нужно, дочка. Так уж не нами положено.
И
чувство безутешной скорби готово было овладеть ими. Но казалось им, кто-то
смотрит с высоты неба, из синевы, оттуда, где звезды, видит всё, что происходит
в Уклееве, сторожит. И как ни велико зло, всё же ночь тиха и прекрасна, и всё
же в божьем мире правда есть и будет, такая же тихая и прекрасная, и всё на
земле только ждет, чтобы слиться с правдой, как лунный свет сливается с ночью.
И обе,
успокоенные, прижавшись друг к другу, уснули.
|


