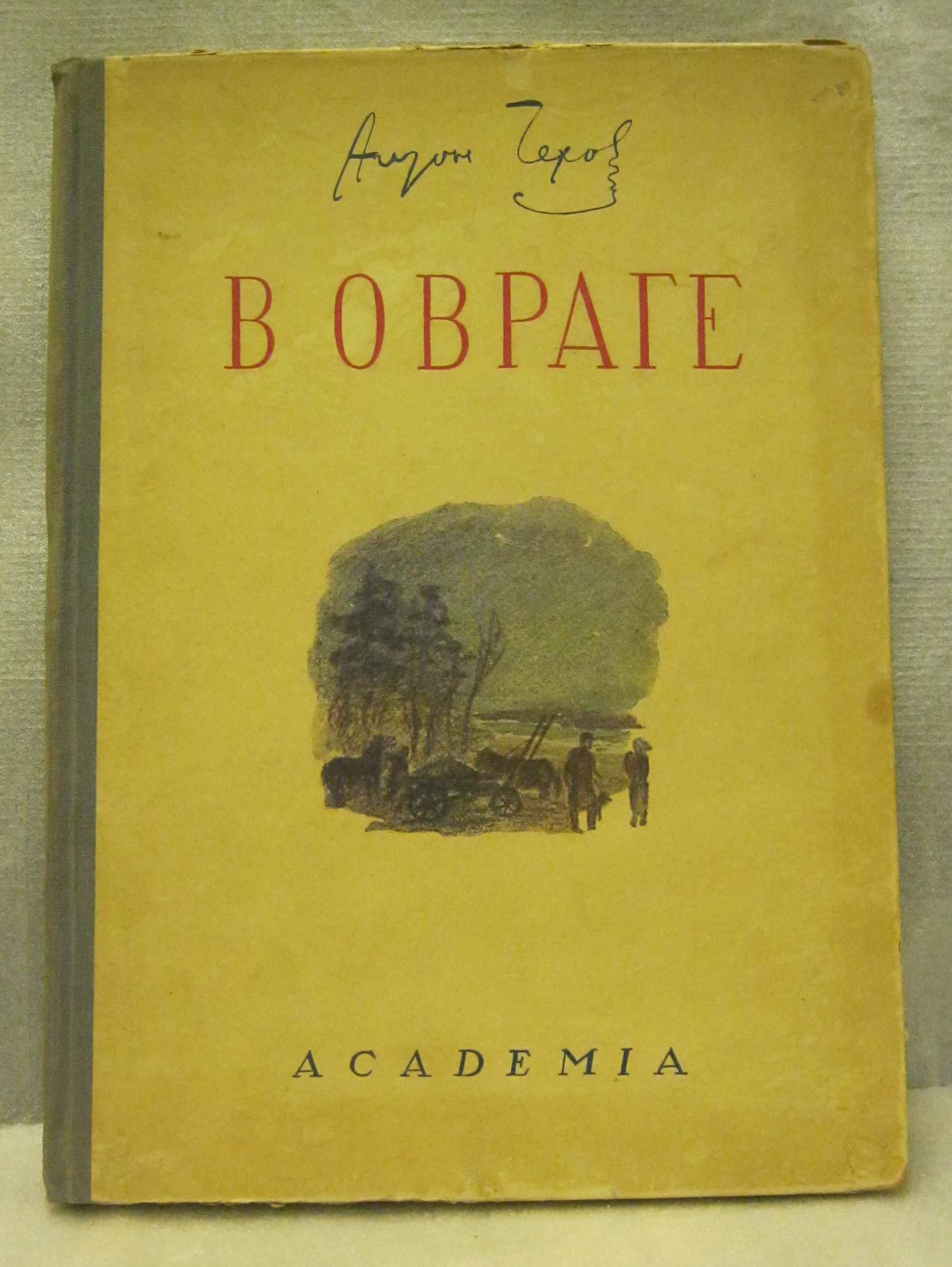
 Увеличить Увеличить |
III
В
деревне Шикаловой жили портнихи, две сестры-хлыстовки. Им были заказаны к
свадьбе обновы, и они часто приходили примеривать и подолгу пили чай. Варваре
сшили коричневое платье с черными кружевами и со стеклярусом, а Аксинье –
светло-зеленое, с желтой грудью и со шлейфом. Когда портнихи кончили, то
Цыбукин заплатил им не деньгами, а товаром из своей лавки, и они ушли от него
грустные, держа в руках узелки со стеариновыми свечами и сардинами, которые
были им совсем не нужны, и, выйдя из села в поле, сели на бугорок и стали
плакать.
Анисим
приехал за три дня до свадьбы, во всем новом. На нем были блестящие резиновые
калоши и вместо галстука красный шнурок с шариками, и на плечах висело пальто,
не надетое в рукава, тоже новое.
Степенно
помолившись богу, он поздоровался с отцом и дал ему десять серебряных рублей и
десять полтинников; и Варваре дал столько же, Аксинье – двадцать четвертаков.
Главная прелесть этого подарка была именно в том, что все монеты, как на
подбор, были новенькие и сверкали на солнце. Стараясь казаться степенным и
серьезным, Анисим напрягал лицо и надувал щеки, и от него пахло вином;
вероятно, на каждой станции выбегал к буфету. И опять была какая-то
развязность, что-то лишнее в человеке. Потом Анисим и старик пили чай и
закусывали, а Варвара перебирала в руках новенькие рубли и расспрашивала про
земляков, живших в городе.
– Ничего,
благодарить бога, живут хорошо, – говорил Анисим. – Только вот у
Ивана Егорова происшествие в семейной жизни: померла его старуха Софья
Никифоровна. От чахотки. Поминальный обед за упокой души заказывали у
кондитера, по два с полтиной с персоны. И виноградное вино было. Которые
мужики, наши земляки – и за них тоже по два с полтиной. Ничего не ели. Нешто
мужик понимает соус!
– Два
с полтиной! – сказал старик и покачал головой.
– А
что же? Там не деревня. Зайдешь в ресторан подзакусить, спросишь того-другого,
компания соберется, выпьешь – ан глядишь, уже рассвет, и пожалуйте по три или
по четыре рубля с каждого. А когда с Самородовым, так тот любит, чтоб после
всего кофий с коньяком, а коньяк по шести гривен рюмочка-с.
– И
всё врет, – проговорил старик в восхищении. – И всё врет!
– Я
теперь всегда с Самородовым. Это тот самый Самородов, что вам мои письма пишет.
Великолепно пишет. И если б рассказать, мамаша, – весело продолжал Анисим,
обращаясь к Варваре, – какой человек есть этот самый Самородов, то вы не
поверите. Мы его все Мухтаром зовем, так как он вроде армяшки – весь черный. Я
его насквозь вижу, все дела его знаю вот как свои пять пальцев, мамаша, и он
это чувствует и всё за мной ходит, не отстает, и нас теперь водой не разольешь.
Ему как будто жутковато, но и без меня жить не может. Куда я, туда и он. У
меня, мамаша, верный, правильный глаз. Глядишь на толкучке: мужик рубаху
продает. – Стой, рубаха краденая! – И верно, так и выходит: рубаха
краденая.
– Откуда
же ты знаешь? – спросила Варвара.
– Ниоткуда,
глаз у меня такой. Я не знаю, какая там рубаха, а только почему-то так меня и
тянет к ней: краденая и всё тут. У нас в сыскном так уж и говорят: «Ну, Анисим
пошел вальдшнепов стрелять!» Это значит – искать краденое. Да… Украсть всякий
может, да вот как сберечь! Велика земля, а спрятать краденое негде.
– А
в нашем селе у Гунторевых на прошлой неделе угнали барана и двух ярок, –
сказала Варвара и вздохнула. – И поискать некому… Ох-тех-те…
– Что
ж? Поискать можно. Это ничего, можно.
Подошел
день свадьбы. Это был прохладный, но ясный, веселый апрельский день. Уже с
раннего утра по Уклееву разъезжали, звеня колоколами, тройки и пары с
разноцветными лентами на дугах и в гривах. В вербах шумели грачи, потревоженные
этой ездой, и, надсаживаясь, не умолкая, пели скворцы, как будто радуясь, что у
Цыбукиных свадьба.
В доме
на столах уже были длинные рыбы, окорока и птицы с начинкой, коробки со шпротами,
разные соленья и маринады и множество бутылок с водкой и винами, пахло копченой
колбасой и прокисшими омарами. И около столов, постукивая каблучками и точа нож
о нож, ходил старик. Варвару то и дело окликали, чего-нибудь требовали, и она с
растерянным видом, тяжело дыша, бегала в кухню, где с рассвета работал повар от
Костюкова и белая кухарка от Хрыминых Младших. Аксинья, завитая, без платья, в
корсете, в новых скрипучих ботинках, носилась по двору как вихрь, и только
мелькали ее голые колени и грудь. Было шумно, слышалась брань, божба; прохожие
останавливались у настежь открытых ворот, и чувствовалось во всем, что готовится
что-то необыкновенное.
– За
невестой поехали!
Звонки
заливались и замирали далеко за деревней… В третьем часу побежал народ: опять
послышались звонки, везут невесту! Церковь была полна, горело паникадило,
певчие, как пожелал того старик Цыбукин, пели по нотам. Блеск огней и яркие
платья ослепили Липу, ей казалось, что певчие своими громкими голосами стучат
по ее голове, как молотками; корсет, который она надела первый раз в жизни, и
ботинки давили ее, и выражение у нее было такое, как будто она только что
очнулась от обморока, – глядит и не понимает. Анисим, в черном сюртуке, с
красным шнурком вместо галстука, задумался, глядя в одну точку, и когда певчие
громко вскрикивали, быстро крестился. На душе у него было умиление, хотелось
плакать. Эта церковь была знакома ему с раннего детства; когда-то покойная мать
приносила его сюда приобщать, когда-то он пел на клиросе с мальчиками; ему так
памятны каждый уголок, каждая икона. Его вот венчают, его нужно женить для
порядка, но он уж не думал об этом, как-то не помнил, забыл совсем о свадьбе.
Слезы мешали глядеть на иконы, давило под сердцем; он молился и просил у бога,
чтобы несчастья, неминуемые, которые готовы уже разразиться над ним не
сегодня-завтра, обошли бы его как-нибудь, как грозовые тучи в засуху обходят
деревню, не дав ни одной капли дождя. И столько грехов уже наворочено в
прошлом, столько грехов, так всё невылазно, непоправимо, что как-то даже
несообразно просить о прощении. Но он просил и о прощении и даже всхлипнул
громко, но никто не обратил на это внимания, так как подумали, что он выпивши.
Послышался
тревожный детский плач:
– Милая
мамка, унеси меня отсюда, касатка!
– Тише
там! – крикнул священник.
Когда
возвращались из церкви, то бежал вслед народ; около лавки, около ворот и во
дворе под окнами тоже была толпа. Пришли бабы величать. Едва молодые
переступили порог, как громко, изо всей силы, вскрикнули певчие, которые уже
стояли в сенях со своими нотами; заиграла музыка, нарочно выписанная из города.
Уже подносили донское шипучее в высоких бокалах, и подрядчик-плотник Елизаров,
высокий, худощавый старик с такими густыми бровями, что глаза были едва видны,
говорил, обращаясь к молодым:
– Анисим
и ты, деточка, любите друг дружку, живите по-божески, деточки, и царица
небесная вас не оставит. – Он припал к плечу старика и всхлипнул. –
Григорий Петров, восплачем, восплачем от радости! – проговорил он тонким
голоском и тотчас же вдруг захохотал и продолжал громко, басом: – Хо-хо-хо! И
эта хороша у тебя невестка! Всё, значит, в ней на место, всё гладенько, не
громыхнет, вся механизма в исправности, винтов много.
Он был
родом из Егорьевского уезда, но с молодых лет работал в Уклееве на фабриках и в
уезде и прижился тут. Его давно уже знали старым, таким же вот тощим и длинным,
и давно уже его звали Костылем. Быть может, оттого, что больше сорока лет ему
приходилось наниматься на фабриках только ремонтом, – он о каждом человеке
или вещи судил только со стороны прочности: не нужен ли ремонт. И прежде чем
сесть за стол, он попробовал несколько стульев, прочны ли, и сига тоже
потрогал.
После
шипучего все стали садиться за стол. Гости говорили, двигая стульями. Пели и
сенях певчие, играла музыка, и в это же время на дворе бабы величали, все в
один голос, – и была какая-то ужасная, дикая смесь звуков, от которой
кружилась голова.
Костыль
вертелся на стуле и толкал соседей локтями, мешал говорить, и то плакал, то хохотал.
– Деточки,
деточки, деточки… – бормотал он быстро. – Аксиньюшка-матушка, Варварушка,
будем жить все в мире и согласии, топорики мои любезные…
Он пил
мало и теперь опьянел от одной рюмки английской горькой. Эта отвратительная
горькая, сделанная неизвестно из чего, одурманила всех, кто пил ее, точно
ушибла. Стали заплетаться языки.
Тут было
духовенство, приказчики с фабрик с женами, торговцы и трактирщики из других
деревень. Волостной старшина и волостной писарь, служившие вместе уже
четырнадцать лет и за всё это время не подписавшие ни одной бумаги, не
отпустившие из волостного правления ни одного человека без того, чтобы не
обмануть и не обидеть, сидели теперь рядом, оба толстые, сытые, и казалось, что
они уже до такой степени пропитались неправдой, что даже кожа на лице у них
была какая-то особенная, мошенническая. Жена писаря, женщина исхудалая, косая,
привела с собой всех своих детей, и, точно хищная птица, косилась на тарелки, и
хватала всё, что попадалось под руку, и прятала себе и детям в карманы.
Липа
сидела окаменелая, всё с тем же выражением, как в церкви. Анисим, с тех пор как
познакомился с ней, не проговорил с ней ни одного слова, так что до сих пор не
знал, какой у нее голос; и теперь, сидя рядом, он всё молчал и пил английскую
горькую, а когда охмелел, то заговорил, обращаясь к тетке, сидевшей напротив:
– У
меня есть друг, по фамилии Самородов. Человек специальный. Личный почетный
гражданин и может разговаривать. Но я его, тетенька, насквозь вижу, и он это
чувствует. Позвольте с вами выпить за здоровье Самородова, тетенька!
Варвара
ходила вокруг стола, угощая гостей, утомленная, растерянная, и, видимо, была довольна,
что так много кушаний и всё так богато, – никто не осудит теперь. Зашло
солнце, а обед продолжался; уже не понимали, что ели, что пили, нельзя было
расслышать, что говорят, и только изредка, когда затихала музыка, ясно было
слышно, как на дворе кричала какая-то баба:
– Насосались
нашей крови, ироды, нет на вас погибели!
Вечером
были танцы под музыку. Приехали Хрымины Младшие со своим вином, и один из них,
когда танцевали кадриль, держал в обеих руках по бутылке, а во рту рюмку, и это
всех смешило. Среди кадрили пускались вдруг вприсядку; зеленая Аксинья только
мелькала, и от шлейфа ее дуло ветром. Кто-то оттоптал ей внизу оборку, и
Костыль крикнул:
– Эй,
внизу плинтус оторвали! Деточки!
У
Аксиньи были серые наивные глаза, которые редко мигали, и на лице постоянно
играла наивная улыбка.
И в этих
немигающих глазах, и в маленькой голове на длинной шее, и в ее стройности было
что-то змеиное; зеленая, с желтой грудью, с улыбкой, она глядела, как весной из
молодой ржи глядит на прохожего гадюка, вытянувшись и подняв голову. Хрымины
держались с ней вольно, и заметно было очень, что со старшим из них она давно
уже находилась в близких отношениях. А глухой ничего не понимал, не глядел на
нее; он сидел, положив ногу на ногу, и ел орехи и раскусывал их так громко,
что, казалось, стрелял из пистолета.
Но вот и
сам старик Цыбукин вышел на средину и взмахнул платком, подавая знак, что и он
тоже хочет плясать русскую, и по всему дому и во дворе в толпе пронесся гул
одобрения:
– Сам
вышел! Сам!
Плясала
Варвара, а старик только помахивал платком и перебирал каблучками, но те, которые
там, во дворе, нависая друг на друге, заглядывали в окна, были в восторге и на
минуту простили ему всё – и его богатство, и обиды.
– Молодчина,
Григорий Петров! – слышалось в толпе. – Так, старайся! Значит, еще можешь
заниматься! Ха-ха!
Всё это
кончилось поздно, во втором часу ночи. Анисим, пошатываясь, обходил на прощанье
певчих и музыкантов и дарил каждому по новому полтиннику. И старик, не качаясь,
а всё как-то ступая на одну ногу, провожал гостей и говорил каждому:
– Свадьба
две тысячи стоила.
Когда
расходились, у Шикаловского трактирщика кто-то обменил хорошую поддевку на
старую, и Анисим вдруг вспыхнул и стал кричать:
– Стой!
Я сыщу сейчас! Я знаю, кто это украл! Стой!
Он
выбежал на улицу, погнался за кем-то; его поймали, повели под руки домой и
пихнули его, пьяного, красного от гнева, мокрого, в комнату, где тетка уже
раздевала Липу, и заперли.
|


