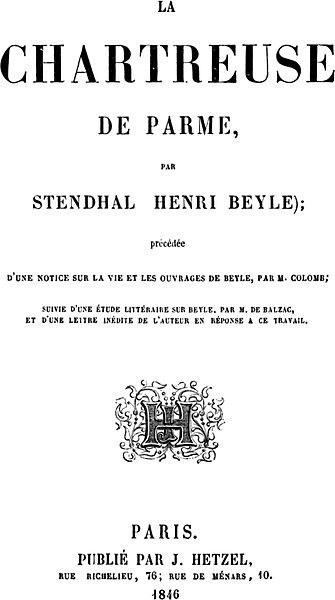
 Увеличить Увеличить |
19
Большие
затруднения, внезапно возникшие на блестящем пути графа Моска, казалось,
предвещавшие близкое падение премьер-министра, разожгли до неистовства
честолюбие генерала Конти, и он теперь постоянно устраивал дочери бурные сцены:
кричал, что она испортит его карьеру, если не решится, наконец, сделать выбор,
что в двадцать лет девушке уже пора выйти замуж, что надо положить конец
пагубному отсутствию связей, на которое обрекает его безрассудное упрямство дочери,
и т. д. и т. д.
От
ежеминутных приступов отцовского гнева Клелия спасалась в вольеру: туда вела
узкая и крутая лесенка, Представлявшая серьезное препятствие для подагрических
ног коменданта.
Уже
несколько недель в душе Клелии было такое смятение, и так трудно было ей разобраться
в себе, что она почти уступила отцу, хотя и не дала еще окончательного
согласия. Однажды в порыве гнева генерал крикнул, что он не постесняется
отправить ее в самый унылый из пармских монастырей, и придется ей там поскучать
до тех пор, пока она не соизволит, наконец, сделать выбор.
– Вам,
сударыня, известно, что при всей древности нашего имени доходу у нас меньше шести
тысяч ливров, а маркизу Крешенци его состояние приносит сто тысяч экю в год.
При дворе все в один голос говорят, что у него на редкость мягкий характер;
никто не имел никогда оснований обижаться на него; он очень хорош, собою, молод
и в большом фаворе у принца. Право, надо быть сумасшедшей, чтобы отвергнуть
такого жениха. Будь это первый отказ, я еще, пожалуй, примирился бы, но вы уже
отвергли пять или шесть партий, да каких!.. Самых блестящих при дворе!.. Вы
просто-напросто глупая девчонка! Что с вами будет, скажите на милость, если мне
дадут отставку с пенсией в половину оклада? Как будут ликовать мои враги, когда
мне придется поселиться где-нибудь на третьем этаже! Это мне-то!.. После того
как меня столько раз прочили в министры!.. Нет, черт побери! Слишком долго я по
своей доброте играл роль Кассандра. Дайте мне какой-нибудь основательный резон.
Чем вам не угодил несчастный маркиз Крешенци, который удостоил вас своей
любовью, согласен взять вас без приданого и записать за вами в брачном
контракте тридцать тысяч ливров ренты? При таких средствах я могу хоть приличную
квартиру снять. Дайте же мне разумное объяснение, иначе, черт побери, через два
месяца вы будете женой маркиза!..
Из
всей этой речи Клелию затронуло только одно: угроза отправить ее в монастырь и,
следовательно, удалить из крепости да еще в такое время, когда жизнь Фабрицио
висит на волоске, – из месяца в месяц при дворе и по городу ходили слухи о
близкой его казни. Сколько ни старалась Клелия образумить себя, она не могла
решиться на такое страшное испытание: разлучиться с Фабрицио именно теперь,
когда она ежеминутно дрожала за его жизнь. В ее глазах это было величайшим
несчастьем, во всяком случае самым близким по времени. И вовсе не потому хотела
она избежать разлуки с Фабрицио, что сердце ее видело впереди счастье, –
нет, она знала, что герцогиня любит его, и душу ее терзала убийственная
ревность. Она беспрестанно думала о преимуществах этой женщины, которой все
восторгались. Крайняя сдержанность Клелии в обращении с Фабрицио, язык знаков,
которым она заставляла его ограничиться, боясь выдать себя каким-либо
неосторожным словом, лишали ее возможности выяснить характер его отношений с
герцогиней. И с каждым днем она все больше мучилась жестокой мыслью о сопернице
в сердце Фабрицио, с каждым днем ей все страшнее было пойти навстречу опасности
и дать ему повод открыть всю правду о том, что происходит в его сердце. Но
какой радостью было бы для Клелии услышать признание в истинных его чувствах!
Как счастлива была бы она, если бы рассеялись ужасные подозрения, отравлявшие
ее жизнь!
Фабрицио
был ветреник; в Неаполе он слыл повесой, с легкостью менявшим любовниц.
Несмотря на скромность, подобающую девице, Клелия, с тех пор как ее сделали
канониссой и представили ко двору, ни о чем не расспрашивая, только
прислушиваясь в обществе к разговорам, узнала репутацию каждого молодого
человека, искавшего ее руки. И что же! Фабрицио в сердечных делах был
несравненно легкомысленней всех этих молодых людей. Теперь он попал в тюрьму,
скучал и для развлечения принялся ухаживать за единственной женщиной, с которой
мог беседовать.
«Что
может быть проще, но и что может быть пошлее?» – с горестью думала Клелия. Если
бы даже в откровенном объяснении она узнала, что Фабрицио разлюбил герцогиню,
разве могла бы она поверить его словам? А если бы и поверила искренности речей,
разве могла она поверить в постоянство чувства? И в довершение всего сердце ее
наполняла отчаянием мысль, что Фабрицио ужа далеко подвинулся в церковной
карьере и вскоре свяжет себя вечным обетом. Разве его не ждут высокие почести
на пути, который он избрал для себя?
«Если
б у меня осталась хоть искра здравого смысла, – думала бедняжка
Клелия, – мне самой следовало бы бежать от него, самой умолять отца, чтоб
он заточил меня в какой-нибудь далекий монастырь. Но к великому моему
несчастью, для меня страшнее всего оказаться в монастыре, вдали от крепости, и
этот страх руководит всем моим поведением. Из-за этого страха я вынуждена
притворяться, прибегать к бесчестной, гадкой лжи, делать вид, что я принимаю открытые
ухаживания маркиза Крешенци».
Клелия
отличалась большой рассудительностью, ни разу за всю свою жизнь не могла она
упрекнуть себя в каком-либо опрометчивом поступке, а теперь ее поведение было
верхом безрассудства. Легко себе представить, как она страдала от этого!..
Страдала тем более жестоко, что нисколько не обольщалась надеждами. Она питала
привязанность к человеку, которого безумно любила первая при дворе красавица,
женщина, во многом превосходившая ее. И человек этот, будь он даже свободен,
все равно не способен на серьезную привязанность, тогда как она прекрасно
сознавала, что никого больше не полюбит в своей жизни.
Итак,
ужаснейшие упреки совести терзали Клелию, но она каждый день бывала в вольере,
словно ее влекла туда неодолимая сила, а лишь только она туда входила, ей
становилось легче. Укоры совести смолкали на несколько мгновений, и она с
замиранием сердца ждала той минуты, когда откроется некое подобие форточки,
которую Фабрицио вырезал в огромном ставне, заслонявшем его окно. Нередко
случалось, что сторож Грилло задерживался в камере, и узник не мог беседовать
знаками со своей подругой.
Однажды
вечером, около одиннадцати часов, Фабрицио услышал в крепости какой-то необычный
шум; когда он в темноте высовывал голову в свою «форточку», ему был слышен всякий
шум, оглашавший «триста ступеней», как называли длинную лестницу, которая вела
из внутреннего двора к каменной площадке круглой башни, где находились
комендантский дворец и темница Фарнезе – место заключения Фабрицио.
Приблизительно
на середине лестницы, на высоте ста восьмидесяти ступеней, она поворачивала с
южной стороны широкого двора на северную; тут был перекинут легкий железный мостик,
и на середине его всегда стоял караульный, которого сменяли каждые шесть часов.
Иного доступа к комендантскому дворцу и башне Фарнезе не существовало, а чтобы
пропустить проходивших по мосту, караульный должен был съежиться и вплотную
прижаться к перилам. Стоило дважды повернуть рычажок, ключ от которого
комендант всегда носил при себе, как мостик, сразу опустившись, повис бы в
воздухе на высоте более чем в сто футов; благодаря этой простой
предосторожности комендант был недосягаем в своем дворце, и никто не мог также
пробраться в башню Фарнезе: другой лестницы во всей крепости не было, а веревки
от всех крепостных колодцев каждую ночь адъютант коменданта приносил к нему в
кабинет, куда можно было пройти только через его спальню. Фабрицио в первый же
день заключения прекрасно заметил, как неприступна башня, да и Грилло,
любивший, по обычаю тюремщиков, похвастаться своей тюрьмой, не раз рассказывал
ему об этом. Итак, у Фабрицио не было надежды спастись бегством. Однако ему
вспомнилось изречение аббата Бланеса: «Любовник больше думает о том, как бы
пробраться к возлюбленной, чем муж о том, как уберечь жену; узник больше думает
о побеге, чем тюремщик о затворах; следовательно, вопреки всем препятствиям,
любовник и узник должны преуспеть».
В
тот вечер Фабрицио ясно различал шаги множества людей по железному мостику – «мостику
раба», как его называли, потому что некогда далматинский раб бежал из крепости,
сбросив с этого мостика часового.
– Пришли
за кем-то! Может быть, поведут меня сейчас на виселицу. А может быть, в крепости
бунт… Надо воспользоваться этим.
Фабрицио
вооружился, принялся вынимать из тайников золото и вдруг остановился. «Нелепое
существо – человек! – воскликнул он. – Что сказал бы невидимый
зритель, увидев мои приготовления? Неужели я хочу бежать? Что я буду делать,
если даже вернусь в Парму? На другой же день всеми правдами и неправдами снова
постараюсь попасть сюда, чтобы быть возле Клелии. Если это бунт, воспользуемся
случаем, чтобы проникнуть в комендантский дворец; может быть, удастся мне
поговорить с Клелией, и в этом переполохе я даже осмелюсь поцеловать ей руку.
Генерал Конти по природной своей недоверчивости, а также из тщеславия поставил
у дворца пять часовых: по одному у каждого угла, а пятого – у парадных дверей;
но, к счастью, ночь очень темная». Фабрицио, крадучись пошел посмотреть, что
делают тюремщик Грилло и собака Фоке; тюремщик крепко спал в гамаке из воловьей
шкуры, подвешенном на четырех веревках и оплетенном толстой сеткой. Фоке открыл
глаза, встал и, тихо подойдя к Фабрицио, стал ласкаться к нему.
Узник
неслышно поднялся по шести ступенькам в свою дощатую клетку. Шум, раздававшийся
у подножья башни Фарнезе, как раз против входной двери, все усиливался.
Фабрицио опасался, что Грилло проснется. Собрав все свое оружие, он
насторожился и приготовился действовать, полагая, что в эту ночь его ждут
великие приключения, как вдруг услышал прелюдию прекраснейшей симфонии: кто-то
устроил серенаду в честь генерала или его дочери. Безудержный смех напал на
Фабрицио: «А я-то собрался разить кинжалом направо и налево! Серенада – дело
куда более обычное, чем бунт или похищение, для которого должны проникнуть в
тюрьму человек сто!»
Музыканты
играли превосходно, и Фабрицио наслаждался от души: столько недель не знал он
никаких развлечений; он проливал сладостные слезы и в порыве восторга мысленно
обращал к милой Клелии самые неотразимые речи.
На
следующий день, когда Клелия появилась в вольере, она была преисполнена такой
мрачной меланхолии, так бледна, и во взгляде ее Фабрицио прочел такой гнев, что
не решился спросить ее о серенаде, – он боялся показаться неучтивым.
У
Клелии были серьезные основания печалиться. Серенаду устроил для нее маркиз Крешенци:
такое открытое ухаживание было своего рода официальным извещением о предстоящей
свадьбе. Весь тот день, до девяти часов вечера, Клелия стойко противилась и
сдалась только перед угрозой отца немедленно отправить ее в монастырь.
«Как!
Больше не видеть его!» – говорила она себе, заливаясь слезами. Напрасно голос
рассудка добавлял при этом: «Больше не видеть человека, от которого мне нечего
ждать, кроме горя, больше не видеть возлюбленного герцогини, этого ветреника,
который в Неаполе завел себе десять любовниц и всем им изменял; не видеть этого
юного честолюбца, который примет духовный сан, если только избегнет приговора,
тяготеющего над ним! И когда он выйдет из крепости, для меня будет тяжким
грехом смотреть на него; впрочем его врожденное непостоянство избавит меня от
этого искушения. Ведь что я для него? Развлечение, возможность рассеять на
несколько часов в день тюремную скуку».
Но
среди всех этих оскорбительных для Фабрицио мыслей Клелии вдруг вспомнилась его
улыбка, его взгляд в ту минуту, когда жандармы повели его из тюремной
канцелярии в башню Фарнезе. Слезы выступили у нее на глазах.
«Дорогой друг, чего бы я не сделала для тебя! Знаю,
ты погубишь меня. Так суждено мне. Я сама загубила себя, и так жестоко,
согласившись принять нынче вечером эту мерзкую серенаду!.. Зато завтра утром я
увижу твои глаза».
Но
именно в то утро, после великой жертвы, принесенной ею накануне ради юного
узника, которому она отдала свое сердце, и, видя все его недостатки, ради него
жертвовала своим будущим, именно в то утро Фабрицио пришел в отчаяние от ее
холодности. Они объяснялись только знаками, но все же, стоило Фабрицио даже при
таком несовершенном языке сделать хоть малейшую попытку проникнуть
насильственно в душу Клелии, она не могла бы сдержать слез и призналась бы во
всем, что чувствовала к нему. Но у Фабрицио не хватило на это смелости, он
смертельно боялся оскорбить Клелию, – ведь она могла подвергнуть его
суровой каре. Короче говоря, у Фабрицио не было никакого опыта в истинной
любви, никогда он даже в самой слабой степени не знал ее волнений. После
серенады ему понадобилась целая неделя, чтобы восстановить прежние дружеские
беседы с Клелией. Бедняжка вооружилась суровостью из страха выдать себя. А
Фабрицио казалось, что с каждым днем она все больше отдаляется от него.
Уже
почти три месяца Фабрицио провел в тюрьме, не имея никакой связи с внешним миром,
но совсем не чувствовал себя несчастным. Однажды утром Грилло долго не уходил
из камеры; Фабрицио был в отчаянии, не зная, как от него отделаться; пробило
уже половина первого, когда, наконец, он получил возможность открыть два
маленьких оконца вышиною в фут, вырезанные им в злополучном ставне.
Клелия
стояла в вольере, устремив глаза на окно Фабрицио; лицо ее осунулось и выражало
безнадежную скорбь. Увидев Фабрицио, она тотчас же показала знаками, что все
погибло, бросилась к фортепиано и, как будто напевая речитатив из модной тогда
оперы, заговорила с ним, прерывая пение то от отчаяния, то от страха, что слова
ее поймут часовые, шагавшие под окном.
«Великий боже, вы еще живы?! О, как благодарю я
небо! Тюремщик Барбоне, наказанный вами за наглость в тот день, когда вы сюда
вступили, исчез, и его долго не было в крепости. Позавчера он вернулся, и со
вчерашнего дня меня преследует страх, что он замыслил вас отравить. Он все
вертится в той дворцовой кухне, где для вас готовят пищу. Ничего в точности я
не знаю. Но моя горничная уверена, что этот жестокий человек забрался в кухню с
единственной целью отнять у вас жизнь. Я была в смертельной тревоге, не видя
вас, я уже думала, что вы погибли. Воздержитесь от пищи до нового указания. Я сделаю
все возможное, чтобы передать вам немного шоколаду. Во всяком случае нынче
вечером, в девять часов, если у вас, по милости неба, есть бечевка или если вы
можете сделать тесьму из простынь, спустите ее из окна на апельсиновое деревце.
Я привяжу к ней веревку, потяните ее к себе, и я передам вам хлеб и шоколад».
Фабрицио
хранил, как сокровище, кусок угля, найденный им в тюремной печке; тут он поспешил
воспользоваться волнением Клелии и принялся писать на ладони одну за другой
буквы, из которых сложились следующие слова:
«Люблю вас и жизнью дорожу лишь потому, что вижу
вас. Главное, пришлите бумаги и карандаш».
Как
и надеялся Фабрицио, крайний ужас, отражавшийся в чертах Клелии, помешал ей прервать
беседу после дерзких слов: «Люблю вас» – и она только выразила большое неудовольствие.
У Фабрицио хватило догадливости прибавить: «Сегодня очень ветрено, я плохо
слышал те благосклонные предупреждения, что вы пропели; фортепиано заглушало
слова. Что, например, значит отрава, о которой вы упомянули?»
При
этих словах ужас с прежней силой овладел сердцем Клелии; она стала торопливо писать
крупные буквы на вырванных из книги страницах; Фабрицио возликовал, увидев, как
через три месяца тщетных стараний, установился, наконец, столь желанный ему
способ беседы. Однако он продолжал так хорошо удавшуюся хитрость. Стремясь
теперь добиться переписки, он поминутно притворялся, что не понимает слов,
складывавшихся из букв, которые Клелия чертила на бумаге и показывала ему.
Наконец,
Клелия убежала, услышав голос отца, – больше всего она боялась, как бы
генерал не пришел за ней. По природной своей подозрительности он отнюдь не был
бы доволен близким расстоянием между окном вольеры и ставнем, закрывавшим окно
узника. За несколько минут до появления Фабрицио, когда смертельная тревога
томила Клелию, ей самой пришло на ум, что можно бросить камешек, обернутый
бумагой, в верхнюю часть окна, над ставнем, – и если бы, по воле случая, в
камере не оказалось тюремщика, сторожившего Фабрицио, такой способ сообщения
был бы самым надежным.
Узник
поспешно принялся изготовлять тесьму из простынь; вечером, в десятом часу, он явственно
расслышал легкое постукивание: стучали по кадке с апельсиновым деревцем,
стоявшим под его окном; он спустил тесьму, потом поднял ее и вытянул снизу
тонкую, очень длинную веревку, к которой был привязан пакетик с шоколадом, а
кроме того, к несказанной его радости, – бумага, свернутая в трубку, и
карандаш; он снова опустил веревку, но больше ничего не получил, –
вероятно, к апельсиновым деревцам приблизился часовой. Но и так Фабрицио
опьянел от радости; он тотчас же принялся писать Клелии пространное письмо, и
лишь только оно было закончено, привязал его к веревке и спустил из окна.
Больше трех часов он ждал, не придут ли взять письмо, несколько раз снова
поднимал его, делал в нем изменения. «Если Клелия не прочтет моего письма нынче
вечером, – думал он, – пока ее еще волнуют слухи об отраве, завтра,
она, возможно, даже мысли не допустит о том, чтобы переписываться со мной».
А
Клелия против воли должна была поехать с отцом в гости; Фабрицио почти
догадался об этом, когда в половине первого ночи во двор въехала карета, –
он уже узнавал генеральских лошадей по стуку копыт. Затем он услышал, как
генерал прошел по площадке, как часовые, звякнув ружьями, взяли «на караул»; и
какова же была его радость, когда через несколько минут после этого он
почувствовал, что закачалась веревка, которую он обмотал вокруг запястья. К
веревке привязали какой-то груз и двумя толчками дали сигнал поднять его;
сделать это было нелегко, – мешал широкий выступ карниза у самого
подоконника.
Груз,
который Фабрицио, наконец, поднял, оказался графином с водой, обернутым шалью.
Бедный юноша, так долго живший в одиночестве, покрыл восторженными поцелуями
эту шаль. Невозможно описать его волнение, когда он обнаружил приколотую к ней
записку – предмет столь долгих и тщетных надежд.
«Пейте только эту воду, питайтесь только присланным
шоколадом; завтра сделаю все возможное, чтобы передать вам хлеб; корочку со
всех сторон помечу чернильными крестиками. Страшно говорить об этом, но знайте,
что Барбоне, вероятно, поручено отравить вас. Как вы не понимаете, что то, о
чем вы говорите в письме, написанном карандашом, должно быть мне тягостно?
Право, после этого я не стала бы писать, если б вам не грозила ужасная опасность.
Сегодня видела герцогиню; она и граф здоровы, но она очень похудела. Не
касайтесь больше в письмах „того предмета“, – неужели вы хотите, чтобы я
рассердилась?»
Предпоследняя
фраза этой записки стоила Клелии немалых добродетельных усилий. В придворном
обществе все считали, что синьора Сансеверина подарила своей благосклонностью
красивого графа Бальди, бывшего возлюбленного маркизы Раверси. Во всяком случае
он явно и самым скандальным образом порвал с маркизой, хотя она шесть лет была
для него настоящей матерью и создала ему положение в свете.
Клелии
пришлось заново переписать свою короткую записку, – в первой ее редакции
проскальзывал намек на новую любовь, которую светское злословие приписывало
герцогине.
«Какая
это низость с моей стороны! – воскликнула она про себя. – Дурно
говорить Фабрицио о любимой им женщине!..»
Наутро,
задолго до рассвета, Грилло вошел в камеру Фабрицио, молча положил на стол довольно
тяжелый узел и вышел. В узле оказался большой каравай хлеба, со всех сторон
испещренный крестиками, сделанными пером. Фабрицио без конца целовал каждый
крестик: он был влюблен. Помимо хлеба, там еще оказалось шесть тысяч цехинов,
плотно упакованных в оберточную бумагу, и, наконец, прекрасный, совершенно
новый молитвенник; на полях уже знакомым Фабрицио почерком было написано:
«Яд! Остерегаться воды, вина – всего; есть можно
только шоколад; обеда не касаться, стараться скормить его собаке; не выказывать
подозрений, иначе враг прибегнет к другим способам. Ради бога, никакой
опрометчивости, никакого легкомыслия!»
Фабрицио
поспешил стереть эти драгоценные строки, – они могли скомпрометировать
Клелию; затем вырвал из молитвенника много листков и написал на них алфавит в
нескольких экземплярах, старательно выводя каждую букву; чернила он сделал из
вина и толченого угля. К полудню, когда Клелия появилась в вольере, в двух
шагах от окна, все буквы уже высохли.
«Теперь
самое важное, – думал Фабрицио, – чтобы она разрешила мне
воспользоваться алфавитом».
По
счастью, Клелии нужно было очень многое сказать узнику о попытке отравить его;
собака одной из служанок подохла, съев кушанье, предназначенное для него. Итак,
Клелия не только не воспротивилась употреблению алфавита, но и сама приготовила
великолепный алфавит, написанный настоящими чернилами. Беседа, установившаяся
таким способом и на первых порах довольно затруднительная, тем не менее длилась
полтора часа, – все то время, которое Клелия могла провести в вольере.
Два-три раза Фабрицио позволил себе коснуться запретной темы; тогда Клелия,
ничего не отвечая, на минутку отходила к птицам, как будто вспомнив, что нужно
позаботиться о них.
Фабрицио
добился обещания, что вечером вместе с водой она пришлет ему один из своих
алфавитов, написанных чернилами, так как их легче разобрать издали. Он,
конечно, не преминул написать длиннейшее письмо, но постарался не выражать
нежные чувства, по крайней мере в такой форме, которая могла рассердить ее.
Маневр оказался удачным: письмо его было принято.
На
другой день в беседе, происходившей при помощи алфавитов, Клелия ни в чем не
упрекала его; она сообщила, что опасность отравы уменьшилась: на Барбоне напали
и избили его до полусмерти кавалеры кухонных служанок в комендантском
дворце, – вероятно, он теперь не осмелится появиться в кухне. Клелия
призналась Фабрицио, что решилась украсть для него у отца противоядие, и
посылает ему это лекарство; но главное сейчас – отвергать всякую пищу, если у
нее будет какой-нибудь странный привкус.
Клелия
настойчиво расспрашивала дона Чезаре, откуда взялись шесть тысяч цехинов, полученных
Фабрицио, но ничего не узнала; во всяком случае это был хороший признак:
строгости уменьшились.
Опасность
отравления чрезвычайно подвинула вперед сердечные дела нашего узника; правда,
он не мог добиться от Клелии ни единого слова, похожего на признание в любви,
но был счастлив дружеской близостью с нею. По утрам, а порой и под вечер они
вели долгие разговоры с помощью алфавитов; каждый вечер, в девять часов, Клелия
получала от него длинные письма и иногда отвечала ему коротенькой запиской; она
посылала ему газету и даже книги, а Грилло так задобрили, что он теперь
ежедневно приносил в камеру хлеб и вино, которые передавала ему горничная
Клелии. Из всех этих забот о Фабрицио тюремщик сделал вывод, что комендант не
согласен с людьми, поручившими Барбоне отравить молодого монсиньора; Грилло был
этим очень доволен, так же как и все его товарищи, ибо в тюрьме сложилась
поговорка: «Посмотри в глаза монсиньору дель Донго, и он тотчас даст тебе
денег».
Фабрицио
осунулся, побледнел, полное отсутствие движения подтачивало его здоровье, но
еще никогда он не чувствовал себя таким счастливым. Тон его бесед с Клелией был
задушевный, иногда очень веселый. И это были единственные минуты в жизни
Клелии, когда ее не мучили мрачные предчувствия и укоры совести. Однажды она
имела неосторожность сказать ему:
– Я
восхищаюсь вашей деликатностью. Помня, что я дочь коменданта крепости, вы никогда
не говорите мне о своем желании вырваться на свободу.
– Упаси
меня бог от такого нелепого желания, – ответил ей Фабрицио. – Если я
даже вернусь в Парму, как мне видеть вас? А жизнь отныне для меня невыносима,
если мне нельзя будет говорить вам все, что я думаю… Нет, – конечно, не
все, что я думаю: ведь вы завели строгие порядки. Но все же, невзирая на вашу
жестокость, жить и не видеть вас ежедневно, было бы для меня горькой мукой. А
заточение в этой тюрьме… Да я еще никогда в жизни не был так счастлив! Не
правда ли, странно, что счастье ждало меня в тюрьме?
– Об
этом можно было бы сказать очень многое, – ответила Клелия, и лицо ее
вдруг стало крайне серьезным, почти мрачным.
– Как? –
встревоженно спросил Фабрицио. – Неужели мне грозит опасность потерять
даже тот крошечный уголок, который удалось мне занять в вашем сердце… Лишиться
единственной моей отрады в этом мире!
– Да, –
ответила она. – У меня есть все основания думать, что у вас нет честности
по отношению ко мне, хотя вас и считают в свете вполне порядочным человеком. Но
сегодня я не хочу говорить об этом.
Такой
неожиданный выпад внес смятение в их беседу, и часто у обоих навертывались на
глаза слезы.
Главный
фискал Расси по-прежнему жаждал расстаться со своим бесславным именем и
называться бароном Рива. Граф Моска, со своей стороны, чрезвычайно искусно
поддерживал в этом продажном судье страстное стремление к баронскому титулу,
так же как он разжигал безумную надежду принца стать конституционным королем
Ломбардии. Это было единственное средство, которое он мог придумать, чтобы
отсрочить смерть Фабрицио.
Принц
говорил Расси:
– Две
недели отчаяния, затем две недели надежды… Терпеливо следуя такой тактике, мы
сломим гордыню этой женщины. Чередуя ласку и суровость, удается укротить самых
непокорных коней. Действуйте смело и неуклонно.
И
вот каждые две недели в Парме возникали слухи о близкой казни Фабрицио. Слухи
эти доводили герцогиню до отчаяния. Твердо решив не губить вместе с собою
графа, она виделась с ним только два раза в месяц. Но за свою жестокость к
этому несчастному человеку она была наказана вспышками отчаяния и неотступной
тоской. Напрасно граф, преодолевая мучительную ревность к красавцу Бальди,
настойчиво ухаживавшему за герцогиней, писал ей, когда не видел ее, и в письмах
передавал все сведения, полученные им от услужливого фискала Расси, будущего
барона Рива, – герцогиня могла бы переносить то и дело возникавшие
страшные слухи о Фабрицио, только если б подле нее постоянно был человек такого
большого ума и сердца, как граф Моска. Ничтожество красавца Бальди не могло
отвлечь ее от черных мыслей, а граф теперь лишился права ободрять ее, внушать
ей надежду.
Пустив
в ход всяческие, довольно искусно изобретенные предлоги, премьер-министр уговорил
принца доверить одному дружественному лицу и перевезти в его замок, близ
Сароно, в самом центре Ломбардии, архив, содержавший свидетельства весьма
сложных интриг, путем которых Ранунцио-Эрнесто IV пытался осуществить
сверхбезумную надежду стать конституционным королем этой прекрасной страны.
В
архиве было больше двадцати весьма секретных документов, собственноручно написанных
или подписанных принцем, и если б жизни Фабрицио грозила серьезная опасность,
граф намеревался заявить его высочеству, что передаст эти компрометирующие
бумаги некой великой державе, которая одним своим словом могла его уничтожить.
Граф
Моска вполне полагался на будущего барона Рива и боялся только яда; покушение
Барбоне так встревожило его, что он решился на поступок с виду безрассудный.
Однажды утром он подъехал к воротам крепости и приказал вызвать генерала Фабио
Конти; тот спустился на бастион, устроенный над воротами; дружески прогуливаясь
с ним по бастиону, граф после краткого холодно-вежливого вступления сказал:
– Если
Фабрицио погибнет при подозрительных обстоятельствах, смерть его припишут мне;
я прослыву ревнивцем, стану посмешищем, а это для меня невыносимо, и я этого не
прощу. Итак, если он умрет от какой-нибудь болезни, я, чтобы смыть с
себя подозрения, «собственной своей рукой» убью вас. Можете в этом не
сомневаться.
Генерал
Конти ответил великолепно, сослался на свою отвагу, но взгляд графа врезался
ему в память.
Через
несколько дней, как будто по сговору с графом, Расси тоже позволил себе неосторожность,
весьма удивительную для такого человека, как он. Общественное презрение к его
имени, вошедшему в поговорку у простонародья, доводило его до припадков, с тех
пор как он возымел весьма обоснованную надежду переменить фамилию. Он направил
генералу Конти официальную копию приговора, по которому Фабрицио был присужден
к заключению в крепости на двенадцать лет. По закону это полагалось сделать на
другой же день после доставки Фабрицио в тюрьму, но в Парме, стране секретных
мер, такой поступок представителей юстиции без особого распоряжения монарха
считался бы неслыханной дерзостью. И в самом деле, разве возможно было питать
надежду «сломить гордый нрав» герцогини, как говорил принц, усиливая каждые две
недели ее ужас, если б официальная копия приговора вышла из стен судебной канцелярии.
Накануне того дня, когда генерал Фабио Конти получил казенный пакет от фискала
Расси, ему доложили, что писца Барбоне, возвращавшегося в крепость в довольно
поздний час по дороге избили; из этого комендант сделал вывод, что в высоких
сферах уже нет намерения избавиться от Фабрицио, и на ближайшей аудиенции
осмотрительно не сказал ничего принцу о полученной в крепости копии приговора.
Это спасло Расси от неминуемых последствий его безумного поступка. К счастью
для спокойствия бедняжки герцогини, граф открыл, что неловкое покушение Барбоне
являлось лишь попыткой личной его мести, и приказал образумить этого писца
вышеупомянутым способом.
Однажды
в четверг, на сто тридцать шестой день заключения в тесной клетке, Фабрицио был
приятно удивлен, когда тюремный эконом, добрый дон Чезаре, повел его
прогуляться по площадке башни Фарнезе; но едва Фабрицио пробыл десять минут на
свежем воздухе, как ему стало дурно. Воспользовавшись этим обстоятельством, дон
Чезаре выхлопотал для него разрешение на ежедневную получасовую прогулку. Это
было неблагоразумно: частые прогулки вскоре вернули силы нашему герою, и он
злоупотребил ими.
Серенады
в крепости продолжались; педантичный комендант терпел их только потому, что они
связывали с маркизом Крешенци Клелию, характер которой внушал ему опасения: он
смутно чувствовал, что у него с дочерью нет ничего общего, и постоянно боялся
какой-нибудь безрассудной выходки с ее стороны. Убежит, например, в монастырь,
и он останется тогда безоружным. Но вместе с тем ему было страшно, как бы
музыкальные мелодии, несомненно проникавшие в самые глубокие подземные
казематы, предназначенные для особо зловредных либералов, не служили
условленными сигналами. Да и сами музыканты вызывали в нем подозрение, и
поэтому, как только серенада заканчивалась, исполнителей ее запирали на ключ в
нижних комнатах комендантского дворца, служивших днем канцелярией крепостного
гарнизона, а выпускали их только поздним утром. Сам комендант, стоя на «мостике
раба», зорко следил, как их обыскивают и, прежде чем возвратить им свободу, по
нескольку раз повторял, что немедленно повесит всякого, кто осмелится взять на
себя хотя бы пустячное поручение к кому-либо из заключенных. А все знали, что
из страха попасть в опалу он способен был выполнить эту угрозу. Маркизу
Крешенци приходилось втридорога платить музыкантам, весьма недовольным ночлегами
в тюрьме.
С
великим трудом герцогине удалось уговорить одного из этих запуганных людей,
чтобы он передал коменданту письмо. В этом письме, адресованном Фабрицио,
герцогиня сетовала на судьбу, ибо уже шестой месяц он находится в заточении, а
его друзья не могут установить с ним никакой связи.
Войдя
в крепость, подкупленный музыкант бросился на колени перед генералом Фабио
Конти и признался, что какой-то незнакомый ему священник так упрашивал его
передать письмо, адресованное синьору дель Донго, что он не решился отказать,
но, верный своему долгу, хочет поскорее отдать это письмо в руки его
превосходительства.
Его
превосходительство был весьма польщен; зная, какими большими возможностями располагает
герцогиня, он боялся, что его проведут. Он с торжеством предъявил письмо
принцу, и тот пришел в восторг:
– Вот
видите! Твердостью правления я отомстил за себя. Надменная женщина страдает уже
шестой месяц. А на днях мы прикажем соорудить эшафот, и необузданному ее
воображению, конечно, представится, что он назначен для юного дель Донго.
|


