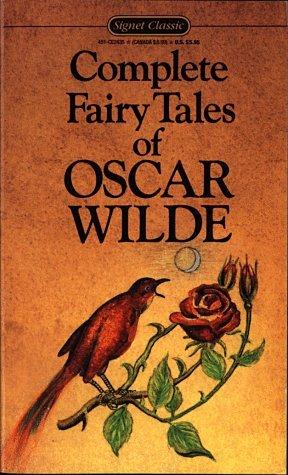
 Увеличить Увеличить |
Из сборника «Гранатовый
домик»
День рождения Инфанты
Посвящается
миссис Уильям Х. Гренфелл (леди Дезборо), Тэплоу-Корт
Это
произошло в день рождения Инфанты. Ей исполнилось двенадцать лет, и солнце,
будто радуясь этому событию, ярко светило в дворцовых парках.
Хоть она
и была Инфантой, принцессой испанской, день рождения она, как и дети простолюдинов,
отмечала лишь один раз в году. Поэтому вся страна молилась о том, чтобы погода
в этот день была ясной и солнечной. И день в самом деле выдался на редкость
погожий. Полосатые тюльпаны на высоких стеблях стояли навытяжку, словно длинные
шеренги солдат, и, с вызовом поглядывая через газон на розы, громко, чтобы те
могли их услышать, восклицали: «Мы ничем вас не хуже!» С цветка на цветок
перепархивали пурпурные бабочки, поблескивая золотистой пыльцой на крыльях; из
трещин в стене выползли маленькие ящерицы и, застыв в грациозных позах, грелись
на ослепительно белом солнце; от нестерпимого зноя растрескивались плоды
гранатов, обнажая свои кровоточащие красные сердца. Бледно-желтые лимоны, в
изобилии свисавшие с почерневших от времени переплетов решеток, выстроившихся
по всей длине сумрачных аркад, разрумянились под щедрым солнечным светом, а на
магнолиях раскрылись цветки, огромные, шарообразные, словно выточенные из
слоновой кости, наполнив воздух сладким, густым ароматом.
А сама
маленькая принцесса прогуливалась вместе со своими друзьями по террасе. Пройдясь
несколько раз в одну сторону, затем в другую, они затеяли игру в прятки – благо
недостатка в каменных вазах и старых, замшелых статуях, за которыми удобно
прятаться, на террасе не было. В обычные дни ей разрешалось общаться только с
детьми своего ранга, так что она вынуждена была играть в одиночестве, но в день
ее рождения делалось исключение, и, по распоряжению Короля, она могла приглашать
к себе своих юных друзей – всех, кто ей нравился. Была какая-то горделивая
грация в плавных движениях этих стройных испанских детей. Головы мальчиков
украшали шляпы с большими перьями, на плечи были накинуты короткие
развевающиеся плащи; девочки одной рукой придерживали шлейфы своих длинных
парчовых платьев, а другой заслоняли глаза от солнца огромными
серебристо-черными веерами. Но Инфанта была самой из них грациозной, и одежда
ее отличалась особенно безукоризненным вкусом, насколько это позволяла тяжеловесная
мода того времени. Ее мантия была из серого атласа, нижняя часть платья и
широкие рукава с буфами щедро расшиты серебром, а жесткий корсаж усыпан рядами
отборных жемчужин. При каждом шаге из-под ее платья выглядывали крохотные
туфельки, украшенные крупными красными розетками. В руке она держала большой
кружевной веер розовато-жемчужного цвета, а в волосы, золотистым ореолом
обрамлявшие ее бледное маленькое лицо, была вдета прекрасная белая роза.
Из окна
дворца за играющими детьми грустно наблюдал Король. Сзади стоял его брат, дон
Педро Арагонский, которого он ненавидел, а рядом сидел великий инквизитор
Гранады,[1]
его духовник. Король был даже печальнее, чем обычно. Глядя на Инфанту, то с
детской серьезностью раскланивающуюся с придворными, то смеющуюся, закрывшись
веером, над приставленной к ней мрачной герцогиней Альбукеркской, он думал о
матери девочки, молодой Королеве, которая, как ему казалось, совсем недавно
приехала из веселой Франции. Через полгода после рождения дочери, увянув среди
мрачного великолепия испанского двора, она отошла в иной мир, так и не успев во
второй раз увидеть цветущий миндаль в саду и сорвать плоды со старой искривленной
смоковницы, стоящей в самом центре поросшего теперь травой внутреннего двора
замка. Король, любовь которого к Королеве была поистине безгранична, не мог
примириться с тем, что могила навеки скроет от него облик любимой, и один
мавританский врач забальзамировал ее, в награду за что ему даровали жизнь,
которой Святая палата[2]
собиралась лишить его, как поговаривали, за еретические мысли и по подозрению в
колдовстве. Тело Королевы покоилось теперь на устланном гобеленами катафалке в
дворцовом склепе из черного мрамора, и она выглядела точно так же, как в тот
ветреный мартовский день, почти двенадцать лет назад, когда ее водрузили туда
внесшие гроб монахи. Неизменно раз в месяц, плотно завернувшись в темный плащ,
с притушенным фонарем в руке, Король входил в склеп и, опустившись на колени у
изголовья катафалка, печально взывал к покойной супруге: «Mi reina! Mi reina!»[3] Порой, в
нарушение формального этикета, определяющего в Испании манеру поведения каждого
человека и даже ограничивающего пределы скорби для самого Короля, он в
безысходном горе лихорадочно сжимал ее бледные, украшенные драгоценностями руки
и покрывал исступленными поцелуями ее холодное, накрашенное лицо, пытаясь
пробудить ее к жизни.
Сейчас
он смотрел в окно, а видел ее, свою Королеву, такой, какой она впервые
предстала перед ним в замке Фонтенбло.[4]
Тогда ему едва исполнилось пятнадцать лет, а она была и того моложе. Вскоре они
были по всей форме обручены папским нунцием[5]
в присутствии французского короля и всего его двора, и он возвратился в
Эскориал,[6]
увезя с собой локон золотистых волос и память о детских губах, на мгновение
прильнувших к его руке, когда он садился в карету. Затем последовало
бракосочетание, спешно совершенное в Бургосе, маленьком городке на границе обеих
стран, и состоялся грандиозный, при огромном стечении народа, въезд в Мадрид,
где, согласно обычаю, отслужили торжественную мессу в церкви Ла-Аточа, после
чего с невиданным дотоле размахом свершили аутодафе,[7] для чего в руки светской
власти было передано почти триста еретиков – среди них много англичан, –
которые и были сожжены на площади.
Король
безумно любил свою Королеву, и это, как многие считали, шло во вред интересам
страны, воевавшей в то время с Англией за владения в Новом Свете. Он не
отпускал ее от себя ни на шаг, из-за нее забросил государственные дела, с
поразительной слепотой, присущей людям, находящимся под влиянием страсти, не
замечая, что пышные церемонии, которыми он старался доставить ей удовольствие,
лишь усиливают ее загадочную болезнь. Когда она умерла, Король на какое-то
время словно лишился рассудка. Нет никаких сомнений, что он официально отрекся
бы от престола и удалился бы в большой монастырь траппистов[8] в Гранаде, номинальным
приором которого он являлся, если бы не боялся оставить маленькую Инфанту во
власти брата, поражавшего своей жестокостью даже привычную ко всему Испанию и
повинного, как подозревали многие, в смерти Королевы через посредство
отравленных перчаток, приподнесенных ей во время ее пребывания в его арагонском
замке. Даже по истечении трех лет официального траура, объявленного во всех
испанских владениях специальным королевским эдиктом, Король останавливал любые
разговоры своих министров о новом супружестве, и, когда сам Император направил
к нему послов с предложением руки своей племянницы, прекрасной эрцгерцогини
Богемской, он велел передать их повелителю, что Король Испании уже обвенчан со
Скорбью, и, хотя она не принесет ему потомства, он любит ее больше Красоты;
ответ этот стоил его короне богатых нидерландских провинций, которые вскоре
восстали против него, подстрекаемые Императором и руководимые фанатиками
реформистской церкви.
За то
недолгое время, что он смотрел на играющую на террасе Инфанту, перед ним прошла
вся его супружеская жизнь, с ее неистово-жгучими радостями и мучительной болью
ее внезапного завершения. Его дочь удивительно напоминала Королеву и своей
забавной манерой сердиться, и тем, как она своенравно вскидывала голову, и тем,
как горделиво кривила красивые губы, и своей чудесной улыбкой – поистине vrai
sourire de France,[9]
– когда она время от времени бросала взгляд на окно, в которое он на нее
смотрел, или протягивала свою маленькую руку кому-нибудь из величественных
испанских грандов для поцелуя. Но пронзительный смех детей неприятно резал ему
слух, яркое безжалостное солнце глумилось над его печалью, а неуловимый запах
диковинных снадобий, которые применяют при бальзамировании, лишал утренний
воздух свежести – впрочем, это ему могло только чудиться. Он закрыл лицо
руками, и, когда Инфанта в очередной раз посмотрела наверх, Король уже ушел, а
окно было задернуто шторами.
Она
состроила разочарованную гримаску и недовольно передернула плечами. Уж в ее
день рождения он мог бы уделить ей больше внимания. Кому нужны эти дурацкие
государственные дела? А может быть, он отправился в этот мрачный склеп, где
всегда горят свечи и куда ее никогда не пускают? Как глупо с его стороны это
делать, да еще в такой солнечный день, когда все вокруг так счастливы! К тому
же он пропустит игрушечный бой быков, на который как раз сейчас приглашали
звуки трубы, не говоря уже о кукольном представлении и других чудесных вещах.
Вот дядя и великий инквизитор – те ведут себя намного разумнее. Они уже вышли
на террасу и успели наговорить ей массу приятных комплиментов. Решительно
вскинув хорошенькую голову, она взяла дона Педро за руку и, неторопливо
спустившись по ступенькам с террасы, направилась вместе с ним к воздвигнутому в
конце сада продолговатому шатру из пурпурного шелка, а за нею последовали и
остальные дети, строго соблюдая порядок, определяемый знатностью их рода, так
что первыми шли те, у кого были самые длинные имена.
* * *
Ее
встречала процессия юных грандов, облаченных в фантастические костюмы
тореадоров. Молодой граф Тьерра-Нуэва, поразительно красивый мальчик лет
четырнадцати, обнажив голову со всей грацией, присущей благородным испанским
идальго,[10]
торжественно проводил ее к маленькому креслу из позолоченной слоновой кости,
водруженному на помост над ареной. Дети, перешептываясь и обмахиваясь веерами,
расположились вокруг Инфанты, а дон Педро и великий инквизитор стояли у входа,
разговаривая и смеясь. Даже герцогиня, состоявшая при дворе старшей
камеристкой, – сухопарая дама с резкими чертами лица, с желтым плоеным
воротничком на платье – казалась не такой раздраженной, как обычно, и нечто
наподобие ледяной улыбки проскользнуло по ее морщинистому лицу, коснувшись
тонких, бескровных губ.
Игрушечная
коррида удалась на славу и, на взгляд Инфанты, была куда увлекательнее
настоящей, виденной ею в Севилье, когда она побывала в этом южном городе по
случаю приезда к ее отцу герцога Пармского. Некоторые из мальчиков гарцевали по
арене на покрытых роскошными чепраками деревянных лошадях с палкой вместо
туловища, потрясая длинными копьями, украшенными яркими, пестрыми лентами;
другие бегали по арене без лошадей, размахивая перед быком алыми плащами и
легко перепрыгивая через барьер, когда он бросался на них. Что касается самого
быка, он выглядел совсем как настоящий, хотя и сделан был из плетеных прутьев и
натянутой на них шкуры. Полному сходству мешало лишь то, что он имел склонность
становиться на дыбы и носиться в вертикальном положении по арене, а такое даже
самому резвому быку не под силу. Все же бык сражался великолепно, и дети пришли
в такое возбуждение, что повскакивали на скамьи и, размахивая кружевными
платками, принялись кричать во все горло: «Bravo toro! Bravo toro!»,[11] то есть вели
себя столь же благоразумно, как и взрослые в подобных случаях. В конце концов,
после продолжительного боя, в ходе которого бык поднял на рога и забодал
несколько лошадей, так что их седоки были вынуждены спешиться, юный граф Тьерра-Нуэва
повалил быка на колени и, получив соизволение Инфанты нанести coup de grвce,[12] вонзил
деревянную шпагу в шею животного с такой силой, что голова у того отвалилась и
из-под нее показалось смеющееся лицо маленького месье де Лоррана, сына
французского посла в Мадриде.
После
того как арена под гром рукоплесканий была очищена и поверженные деревянные
лошади торжественно оттащены за пределы шатра двумя пажами-маврами в
черно-желтых ливреях, последовал короткий перерыв, во время которого
французский акробат продемонстрировал свое искусство на туго натянутом канате,
а затем на сцене маленького театра, специально сооруженного по случаю
праздника, была разыграна полуклассическая трагедия «Софонисба»,[13] роли в
которой исполняли итальянские марионетки. Они играли так хорошо, и движения их
были так естественны, что к концу представления глаза Инфанты затуманились от
слез. Некоторые дети безутешно плакали, и успокоить их могли только сладости.
Даже великий инквизитор, расчувствовавшись, признался дону Педро, что ему
кажется крайне несправедливым, что ни в чем не повинные куклы, сделанные из
дерева и цветного воска, к тому же приводимые в движение при помощи ниток и
проволочек, должны чувствовать себя такими несчастными и испытывать столь
ужасные страдания.
Следующим
выступал африканский фокусник. Он вынес на арену большую невысокую корзину,
накрытую красной тканью, поставил ее посередине, извлек из своего тюрбана
диковинную тростниковую дудочку и стал на ней играть. Через несколько секунд
ткань зашевелилась, и, по мере того как музыка становилась все громче и пронзительнее,
ткань шевелилась все заметнее, пока наконец из корзины не показались две
золотисто-зеленые змеиные головы причудливой клинообразной формы, которые стали
медленно подниматься и раскачиваться под звуки музыки из стороны в сторону,
словно водоросли в потоке воды. У змей были пятнистые капюшоны, они угрожающе
выбрасывали свои жала, и это испугало детей. Зато им очень понравилось, когда фокусник
сделал так, что из песка выросло апельсиновое деревце, покрытое чудесными
белыми цветами и гнущееся под тяжестью спелых плодов. Ну а когда он взял у
маленькой дочери маркиза де Лас-Торреса веер и превратил его в синюю птицу,
которая стала порхать под сводами шатра и весело распевать, восторгу и
изумлению детей не было границ. Галантный и в то же время величественный
менуэт, очаровательно исполненный маленькими танцорами из церкви Эль Пилар, что
в городе Сарагосе, тоже произвел большое впечатление. Инфанте никогда раньше не
приходилось любоваться этим необыкновенным танцем и чудесной церемонией,
происходившей каждый год в мае перед главным престолом церкви Эль Пилар в честь
Пресвятой Девы Марии, ибо никто из испанской королевской семьи не переступал
порога Сарагосского собора с тех самых пор, как один безумный священник,
подкупленный, как полагали многие, людьми английской королевы Елизаветы,
попытался дать принцу Астурианскому отравленную облатку.[14] Поэтому Инфанта о так
называемом «танце Девы Марии» знала лишь понаслышке, и он оказался
действительно прекрасным зрелищем. На мальчиках были старомодные придворные
костюмы из белого бархата, а их затейливые треугольные шляпы окаймляла
серебряная бахрома и увенчивали огромные плюмажи из страусовых перьев. Танцоры,
освещаемые ярким солнцем, выглядели очень эффектно; их смуглые лица и длинные
черные волосы только подчеркивали ослепительную белизну их нарядов.
Присутствующие были заворожены изысканным изяществом их неспешных движений,
горделивостью их величавых поклонов и тем достоинством, с которым они выполняли
замысловатые па, а, когда они закончили представление и почтительно сняли перед
Инфантой свои огромные шляпы с перьями, она, приняв эти знаки почтения с
большой благосклонностью, дала обет отправить в церковь Эль Пилар на алтарь
Богоматери большую восковую свечу в благодарность за доставленное ей
удовольствие.
Потом на
арену вышли статные египтяне, как в те дни называли цыган; они сели в круг
скрестив ноги и принялись негромко наигрывать на цитрах, покачиваясь в такт
музыке и едва слышно напевая тихую, задумчивую мелодию. Заметив среди
присутствующих дона Педро, они встревожились, а некоторые не на шутку
испугались: лишь несколько недель назад он велел повесить на рыночной площади
Севильи двоих из их соплеменников по обвинению в колдовстве, но прелестная
Инфанта, сидевшая откинувшись на спинку кресла и взиравшая на них поверх веера
своими большими голубыми глазами, их просто очаровала, и они чувствовали
уверенность, что такое обворожительное создание, как она, не способно обойтись
с ними жестоко. Поэтому они продолжали исполнять свою нежную мелодию, едва
касаясь длинными заостренными ногтями струн, и головы их то опускались, то
поднимались, словно их клонило ко сну. Вдруг, издав пронзительный крик, от
которого все дети вздрогнули, а дон Педро схватился за агатовую рукоятку
кинжала, они вскочили на ноги и стали неистово кружить по арене, колотя в
тамбурины и распевая на своем диковинном гортанном наречии какую-то страстную
любовную песнь. Затем раздался еще один крик, и они, словно по команде,
бросились на землю, некоторое время оставаясь неподвижными, – тишину
нарушало лишь монотонное бренчание цитр. После этого они снова вскочили, и так
повторялось несколько раз; потом, внезапно исчезнув, вскоре опять возвратились,
ведя за собой на цепи косматого бурого медведя, а на плечах у них восседали маленькие
обезьянки – бесхвостые макаки. Медведь, сохраняя полнейшую невозмутимость,
сделал стойку на голове, а обезьянки, сморщенные мордочки которых казались
ужасно забавными, проделали в высшей степени невероятные трюки вместе с двумя
цыганскими мальчиками, видимо их хозяевами, в довершение ко всему сразившись
между собой на крохотных шпагах, постреляв из мушкетов и продемонстрировав, как
проходит повседневная строевая подготовка королевских гвардейцев. Что и
говорить, цыгане имели огромный успех.
Но самой
веселой частью утреннего представления, несомненно, был танец Карлика. Когда он
вышел на арену, переваливаясь на своих кривых ножках, спотыкаясь и мотая из
стороны в сторону огромной уродливой головой, дети даже завизжали от восторга и
сама Инфанта так смеялась, что камеристка вынуждена была ей напомнить, что,
хотя в испанской истории известно сколько угодно случаев, когда королевская
дочь плакала в присутствии себе равных, не бывало еще такого, чтобы принцесса,
особа королевской крови, позволяла себе столь безудержно веселиться перед теми,
кто ниже ее по рождению. Но Карлик был действительно неотразим, и даже при
испанском дворе, славившемся своим традиционным пристрастием ко всему чудовищному,
никогда еще не видывали такого фантастического уродца. К тому же это было
первое его выступление. Его обнаружили лишь за день до этого двое вельмож,
охотившихся в отдаленной части пробкового леса, окружавшего город, когда тот
пробирался через лесную чащу, и тут же доставили во дворец в качестве сюрприза
для Инфанты; его отец, бедный угольщик, был только рад отделаться от столь
уродливого и никчемного отпрыска. Быть может, самым забавным в Карлике было то,
что он и не подозревал о своей гротескной наружности. Более того, он казался
совершенно счастливым и пребывал в прекраснейшем расположении духа. Когда смеялись
дети, смеялся и он, причем так же искренне и весело, как они, а в конце каждого
танца отвешивал каждому из зрителей уморительнейшие поклоны, улыбаясь и кивая
им с таким видом, будто он такой же, как все они, а вовсе не маленький жалкий уродец,
сотворенный природой на потеху другим в одну из тех редких минут, когда ей
вздумалось подурачиться. Ну а Инфанта совершенно пленила его. Он глаз от нее не
мог оторвать и, казалось, танцевал для нее одной. В конце представления
Инфанта, вспомнив, как однажды знатные придворные дамы бросали букеты
знаменитому итальянскому дисканту Каффарелли, которого Папа Римский прислал из
своей капеллы в Мадрид специально для того, чтобы он своим сладостным пением
излечил от меланхолии Короля, вынула из волос прекрасную белую розу и, то ли в
шутку, то ли чтобы подразнить камеристку, с очаровательнейшей улыбкой бросила
цветок на арену. Карлик воспринял это с полной серьезностью и, прижав розу к
своим толстым потрескавшимся губам и приложив руку к сердцу, опустился перед
Инфантой на одно колено, во весь рот улыбаясь. Его маленькие блестящие глазки
сияли от удовольствия.
Это
показалось Инфанте настолько забавным, что она продолжала смеяться еще долго после
того, как Карлик убежал с арены, а затем, обратившись к дяде, выразила желание,
чтобы танец был немедленно повторен. Однако камеристка, сославшись на зной,
сказала, что для ее высочества будет лучше как можно быстрее вернуться во
дворец, где ее ждет роскошный пир, украшением которого будет специально
испеченный ко дню ее рождения праздничный торт с ее инициалами из подкрашенного
плавленого сахара по всей поверхности и восхитительным серебряным флажком на
верхушке. Инфанте пришлось повиноваться, и она, распорядившись, чтобы Карлик
после сиесты снова пришел танцевать перед ней, и выразив юному графу Тьерра-Нуэва
признательность за чудесный прием, встала и с большим достоинством удалилась в
свои покои, а за ней последовали ее друзья, соблюдая тот же порядок, в котором
они пришли.
* * *
Когда
Карлик узнал, что ему предстоит еще раз танцевать перед Инфантой, к тому же по
ее настоятельному желанию, его до такой степени переполнила гордость, что он
выбежал в сад и принялся в безрассудном восторге целовать подаренную ему белую
розу, сопровождая проявления радости неуклюжими и нелепыми жестами.
Цветы
были крайне возмущены его бесцеремонным вторжением в их прекрасную обитель, а
когда он начал скакать по аллеям сада, смешно размахивая над головой руками,
они больше не смогли сдерживать своих чувств.
– Он
слишком уродлив, чтобы играть рядом с нами! – воскликнули Тюльпаны.
– Напоить
бы его маковым соком – и пусть заснет на тысячу лет, – промолвили большие
алые Лилии, пылая от злости.
– Какое
омерзительное чудовище! – взвизгнул Кактус. – Недоросток скрюченный!
Голова как тыква, а ног совсем не видно – каракатица, и все тут! У меня так и
чешутся колючки; пусть только подойдет, я его всего исколю.
– Подумать
только, ему достался мой лучший цветок, – воскликнул Куст Белых
Роз. – Сегодня утром я лично вручил его Инфанте как подарок на день
рождения, а этот уродец украл его у нее. – И Куст завопил что есть силы: –
Держи вора! Держи вора!
Даже
Красная Герань, которая обычно не слишком важничала и, как всем было известно,
имела большое количество бедных родственников, закрыла свои цветки от отвращения,
увидев Карлика, а, когда Фиалки кротко заметили, что он ведь не может изменить
своей непривлекательной внешности, Герань резонно возразила, что это и есть
главный его недостаток. И в самом деле, продолжала она, если кто-то неизлечим,
это еще не значит, что им следует восхищаться. По правде говоря, Фиалки и сами
понимали, что уродство Карлика уж чересчур вызывающе и с его стороны было бы
гораздо тактичнее, если бы он имел печальный или по крайней мере задумчивый
вид, а не прыгал так жизнерадостно и не делал столь гротескных и несуразных
телодвижений.
Ну а
старые Солнечные Часы, не имевшие себе равных среди подобных приспособлений –
недаром они когда-то показывали время самому императору Карлу V, – были
настолько поражены наружностью Карлика, что чуть не забыли отметить целые две
минуты своим длинным пальцем из тени и посчитали нужным заметить большому
молочно-белому павлину, гревшемуся на солнце на балюстраде, что, как там ни
крути, но дети королей – короли, а дети угольщиков – угольщики и глупо делать
вид, будто это не так, с каковым мнением павлин целиком и полностью согласился,
прокричав: «Еще бы! Еще бы!» – столь пронзительным голосом, что золотые рыбки,
обитавшие в бассейне с прохладным плещущимся фонтаном, выглянули из воды и поинтересовались
у больших каменных тритонов, а что, собственно, такое стряслось.
А вот
птицам он явно нравился. Они часто видели его в лесу, когда, приплясывая словно
эльф, он гонялся за кружащимися листьями или забирался в дупло старого дуба,
чтобы поделиться орехами с белками. Его уродство их ничуть не смущало. Ведь
даже сам соловей, который так сладко поет по ночам в апельсиновых рощах, что
порою луна опускается ниже, чтобы лучше слышать его, и тот не бог весть как
красив. Кроме того, Карлик всегда относился к ним с добротой, и в ту страшную
зиму, когда на кустах и деревьях нельзя было найти ни единой ягоды, а земля от
мороза стала твердой, как железо, и волки подходили к самым городским воротам в
поисках пищи, он не бросил в беде своих пернатых друзей, не забывая оставлять
им крошки от своего куска черного хлеба и всегда делясь с ними завтраком, каким
бы скудным он ни был.
Неудивительно
потому, что птицы так и вились вокруг Карлика, касаясь крыльями его щеки на
лету и без умолку щебеча, и это так ему нравилось, что он решил в благодарность
показать им свою прекрасную белую розу, которую, как он с гордостью им сообщил,
ему подарила сама Инфанта, потому что полюбила его.
Они не
поняли ни слова из сказанного, но это не имело большого значения, потому что
они, склонив голову набок, слушали его очень внимательно и с умным видом, а это
почти то же самое, что понимать, только намного проще.
Ящерицам
Карлик тоже нравился. Когда, устав прыгать, он бросился на траву отдохнуть, они
взобрались на него и стали по нему бегать и весело возиться между собой,
стараясь этим развлечь его. «Не всем же быть такими красивыми, как мы,
ящерицы, – попискивали они. – Это попросту невозможно. Как ни странно
это звучит, на самом деле он не так уж уродлив, если, конечно, закрыть глаза и
на него не смотреть». Ящерицы, по природе своей склонные к философствованию,
любили целыми часами сидеть, погрузившись в размышления, особенно если больше
нечего было делать или погода была слишком дождливой для прогулок.
Цветы,
однако, были ужасно возмущены тем, как ведут себя ящерицы и птицы. «Все это
беганье и порханье, – негодовали они, – только делает их еще более
вульгарными, что и проявляется в их отношении к этому уродцу. Кто хорошо
воспитан, тот никогда не сдвинется с места, вот как мы например. Разве
кто-нибудь видел, чтобы мы носились вприпрыжку по саду или гонялись как
оглашенные за стрекозами по газонам? Если нам хочется переменить обстановку, мы
посылаем за садовником, и он переносит нас на другую клумбу. Вот как нужно себя
вести в приличном обществе. Но птицам и ящерицам не сидится на месте, а у птиц
даже постоянного адреса нет. Они такие же бродяги, как цыгане, и вести себя с
ними нужно соответственным образом». И цветы, задрав свои носы, приняли крайне
высокомерный вид, а когда спустя некоторое время увидели, что Карлик, с трудом
поднявшись на короткие ноги, направляется через террасу к дворцу, вздохнули с
большим облегчением.
– Его
следовало бы держать взаперти до конца его дней, – прошелестели
они. – Вы только взгляните на эту горбатую спину и эти кривые ножки. –
И они захихикали.
Карлику
и в голову не могло прийти, что о нем говорят такое. В птицах и ящерицах он души
не чаял, а цветы считал самыми чудесными творениями на земле – разумеется,
после Инфанты, которая, подарив ему прекрасную белую розу и полюбив его, стала
для него всех дороже. Ах, если бы он смог вместе с ней отправиться во дворец
после представления! Она бы посадила его по правую руку от себя и все время бы
ему улыбалась, а он не отходил бы от нее ни на шаг, стал бы ей постоянным
товарищем по играм и учил бы ее разным замечательным трюкам. Пусть даже он и не
бывал никогда во дворце, зато он знал великое множество удивительных вещей. Он
умел делать из тростника крошечные клетки для кузнечиков, в которых они так
славно поют, и превращать длинный побег бамбука в сладкозвучную свирель, игрой
на которой заслушался бы даже сам Пан.[15]
Он знал голоса всех птиц, и на его зов с верхушек деревьев слетались скворцы, а
с озер цапли. Ему были известны следы всех зверей, и он мог безошибочно
узнавать зайца по едва заметным вмятинам от лап, а кабана – по истоптанной
листве. Ему были знакомы все танцы, исполняемые Природой: и буйный пляс Осени в
багряных одеждах из листьев, и грациозный менуэт Лета в голубых сандалиях из
васильков, и студеный вальс Зимы в белом венке из снега, и веселая кадриль
Весны в цветущем наряде фруктовых садов. Он знал, где вьют гнезда лесные
голуби, и как-то раз, когда птицелов поймал в силки голубей-родителей, он сам
выкормил осиротевших птенцов и устроил для них маленькую голубятню в расщелине
между обрубленными ветвями вяза. Птенцы стали совсем ручными и каждое утро ели
у него из рук. Они непременно понравятся Принцессе, как и другие его друзья:
кролики, снующие в зарослях папоротника; черноклювые сойки в отливающем сталью
оперении; ежи, готовые в любой момент свернуться колючим клубком; большие,
мудрые, неторопливые черепахи, покачивающие головой и пощипывающие молодые
листья. Да, Инфанте обязательно нужно побывать у него в гостях и поиграть с ним
в лесу. Он уступит ей свою маленькую кровать, а сам выйдет из хижины и просидит
до зари под окном, оберегая ее от диких лосей и оленей и не подпуская к хижине
вечно голодных волков. Ранним утром он постучится в ставни и разбудит ее, а
потом они будут целый день танцевать. В лесу ведь не так уж страшно и безлюдно:
то проедет на своем белом муле епископ, читая ярко раскрашенную книгу, то
проскачут соколиные охотники в зеленых бархатных беретах и куртках из дубленой
оленьей кожи, с соколами в колпачках, сидящими у них на запястьях. Когда
наступает сезон виноделия, в лесу можно увидеть давильщиков винограда с
пурпурно-красными руками и ногами, в венках из глянцевого плюща и с полными
вина мехами. Ну а ночи – это время угольщиков, которые сидят вокруг огромных
жаровен, глядя на медленно обугливающиеся на огне сухие бревна и жаря в золе
каштаны, и разбойников, которые выбираются из пещер и присоединяются к ним. А
однажды Карлик видел живописную процессию, направлявшуюся по пыльной извилистой
дороге в Толедо. Впереди, неся ярко раскрашенные хоругви и золотые распятия,
шли и очень красиво пели монахи. За ними в серебристых доспехах, вооруженные
мушкетами и пиками, следовали солдаты, а в их окружении шагала босиком какая-то
странная троица в желтых одеждах, разрисованных причудливыми фигурами, и с
горящими свечами в руках. Да-а, в лесу многое можно увидеть, а когда Инфанта
устанет, он найдет для нее какой-нибудь бугорок с мягким мхом или будет нести
ее на руках – он ведь физически очень сильный, хотя, как он знал, и не вышел
ростом. Он изготовит ей ожерелье из красных ягод брионии, и они будут выглядеть
не хуже тех белых ягод, что украшают ее платье сейчас, а когда ей перестанут нравиться
красные ягоды, она сможет их выбросить, и он отыщет взамен другие. Он будет
приносить ей чашечки желудей, анемоны, усеянные капельками росы, крошечных
светлячков, чтобы они звездами сияли в бледном золоте ее волос.
Но где
же Инфанта? Он спросил об этом у белой розы, но та не дала ответа. Казалось,
весь дворец пребывал во сне, и даже те окна, ставни на которых оставались
открытыми, отгородились от ослепительного солнечного света наглухо задернутыми
шторами. Карлик принялся ходить вокруг дворца в поисках места, через которое он
мог бы войти, и наконец заметил приоткрытую дверь. Он несмело вошел через нее и
очутился в великолепном зале – куда более великолепном, отметил он с грустью,
чем всё, что он видел в лесу; повсюду вокруг была позолота, а пол был выложен
большими разноцветными каменными плитами, образовывавшими сложный геометрический
узор. Но маленькой Инфанты здесь не было – лишь прекрасные белые статуи взирали
на него с яшмовых пьедесталов своими печальными пустыми глазами и загадочно ему
улыбались.
В
глубине зала висел занавес из черного бархата, усеянный множеством небесных
светил – любимый рисунок Короля – и богато расшитый в том сочетании цветов и
оттенков, которые нравились Королю больше всего. Быть может, она прячется за
занавесом? Что ж, надо попытаться проверить.
Карлик
тихонько пересек зал и отодвинул занавес. Но нет, за ним он увидел лишь другое
помещение – еще более красивое, чем то, которое он только что покинул. Стены
здесь были увешаны зелеными гобеленами ручной работы, затканными фигурами,
изображающими сцены охоты. Это были творения фламандских мастеров, потративших
на работу над ними более семи лет. Некогда это были покои короля Jean le Fou,[16] как его
прозвали, – безумца, настолько любившего охоту, что, даже пребывая в
бредовом состоянии, он часто пытался оседлать могучих, норовящих встать на дыбы
коней, или, трубя в охотничий рог, повалить наземь оленя-самца, которого
настигли его большие гончие собаки, или же вонзить кинжал в серую лесную лань.
Теперь здесь заседал королевский совет и на столе в самом центре зала лежали
красные портфели министров с оттиснутыми на них золотыми тюльпанами, эмблемой
Испании, и гербами и эмблемами императорского дома Габсбургов.[17]
Карлик
изумленно оглядывался по сторонам, не осмеливаясь идти дальше. Эти странные
безмолвные всадники, стремительно, но беззвучно несущиеся по длинным, узким
полянам, напомнили ему страшные рассказы угольщиков о призраках, компрачос,
которые охотятся только по ночам, а если встречают на своем пути человека, тут
же превращают его в оленя и гонятся за ним до тех пор, пока не убьют его. Но
мысль о прелестной Инфанте придала ему храбрости. Он хотел увидеть ее одну, без
посторонних, и сказать ей, что он тоже любит ее. Быть может, она в следующей
комнате?
Пробежав
по мягким мавританским коврам в другой конец зала, он рывком отворил дверь.
Нет! И там ее не было. Следующая комната была пуста.
Там
помещался тронный зал, где принимали послов иноземных держав в тех редких в последнее
время случаях, когда Король соглашался дать кому-нибудь из них
аудиенцию, – тот самый зал, в котором много лет назад прибывшие из Англии
посланцы договаривались о браке правившей в то время их страной католической
королевы со старшим сыном императора. Стены зала были обиты позолоченной кожей
из Кордовы, а с черно-белого потолка свисала тяжелая золоченая люстра на триста
восковых свечей. Под большим балдахином из золотой ткани, по которой мелким
жемчугом были вышиты львы и башни Кастилии,[18]
стоял трон с покрывалом из роскошного черного бархата, усыпанного серебряными
тюльпанами и искусно окаймленного серебром и жемчугом. На второй ступеньке
трона была скамеечка с подушкой из серебряной ткани, предназначенная для того,
чтобы Инфанта на ней преклоняла перед Королем колени, а еще ниже, уже за
пределами балдахина, стояло кресло папского нунция – единственного человека,
имевшего право сидеть в присутствии Короля во время любого церемониала; его
кардинальская шапочка с плетеными алыми кисточками лежала на красной табуретке
перед креслом. На стене, обращенной к трону, висел портрет Карла V в
натуральную величину, на котором он был изображен в охотничьем костюме и с
большим догом у ног, а середину противоположной стены занимала картина, на
которой был изображен Филипп II,[19]
принимающий присягу от Нидерландов на верноподданство. Между окнами стоял комод
из черного дерева, инкрустированный пластинками слоновой кости и украшенный
гравюрами из «Пляски смерти» Гольбейна,[20]
выполненными, как утверждали некоторые, самим прославленным мастером.
Но
Карлика мало волновало это великолепие. За все жемчуга на балдахине трона он не
отдал бы своей белой розы; да что там жемчуга – даже за сам трон он не
расстался бы ни с одним лепестком. Ему во что бы то ни стало нужно было увидеть
Инфанту прежде, чем она отправится в шатер, и попросить ее убежать вместе с ним
сразу же после того, как он закончит свой танец. Здесь, во дворце, воздух был
удушливым и тяжелым, а в лесу всегда веет вольный ветер, и солнечный свет
нежными золотыми пальцами раздвигает трепещущую листву. В лесу цветы, может
быть, не столь великолепны, как в королевском саду, но запах их нежнее и
тоньше. Там гиацинты ранней весной заливают фиолетовыми волнами прохладные
лесистые долины и травянистые холмы, там бледно-желтые примулы гнездятся меж
узловатых корней дубов, там расстилаются коврами ярко-желтый чистяк, голубая
вероника, сиреневые и золотые ирисы. Там на орешнике повисли длинные, желтые
сережки, и наперстянка клонится под тяжестью крапчатых цветков, неодолимо
манящих пчел. На каштане зажглись гирлянды белых свечей, а на боярышнике распустились
маленькие бледные луны. Да, он уверен – она с ним пойдет, вот только удалось бы
ее отыскать! Она обязательно уйдет вместе с ним в его замечательный лес, и он
целыми днями будет танцевать ей на усладу. От мыслей об этом глаза его
засветились улыбкой, и он вошел в следующую комнату.
Во всем
дворце не было комнаты наряднее и красивее этой. Ее стены были обтянуты узорчатым
шелком из Лукки[21]
с вытканными на нем птицами, розовыми цветами и изысканными серебристыми
бутонами; мебель была из массивного серебра с рельефно изображенными на ней
гирляндами, венками и порхающими купидонами; перед двумя огромными каминами
стояли большие экраны, украшенные вышитыми на них попугаями и павлинами, а пол
из оникса цвета морской волны, казалось, простирался в бесконечную даль. Но на
сей раз он был в комнате не один. За ним наблюдала какая-то маленькая фигурка,
замершая в проеме полуоткрытой двери в противоположном конце комнаты. Сердце
его затрепетало, с губ сорвался крик радости, и он шагнул из тени в яркий
солнечный свет. Фигурка в глубине комнаты тоже сделала шаг ему навстречу, и он
ясно увидел ее.
Он искал
Инфанту, а нашел чудовище, самое безобразное чудовище, какое когда-либо видел.
Оно мало чем напоминало человека, было бесформенное, горбатое, криворукое и
кривоногое, с огромной, болтающейся головой и с гривой нечесаных черных волос.
Карлик нахмурился – нахмурилось и чудовище. Он засмеялся – оно засмеялось тоже.
Он прижал руки к бокам – оно сделало точно так же. Он насмешливо поклонился
чудовищу – оно отвесило ему низкий поклон. Он двинулся ему навстречу – оно тоже
стало приближаться, имитируя каждое его движение, но стоило ему остановиться, как
оно тут же замерло на месте. Карлик засмеялся, подбежал к нему поближе и
вытянул вперед руку – ее коснулась рука чудовища, холодная как лед. Он
испугался и отдернул руку – чудовище рывком убрало свою. Он хотел было шагнуть
вперед, но уткнулся во что-то гладкое и твердое. Теперь лицо чудовища было от
него совсем близко, и оно выражало страх. Он откинул со лба волосы. Оно
повторило его движение. Он ударил чудовище. Оно возвратило удар. Он смотрел на
него с отвращением. Оно корчило ему рожи. Он сделал несколько шагов назад. Оно
стало пятиться.
Что бы
это могло значить? Подумав немного, но не найдя ответа, Карлик обвел взглядом
комнату, и тут только заметил, что за этой прозрачной стеной находятся точные
копии всех окружающих предметов. Картина повторялась в виде точно такой же
картины, а диван – в виде точно такого же дивана. У спящего Фавна, лежащего в
алькове у дверей, был за прозрачной стеной брат-близнец, который тоже дремал, а
озаренная солнцем серебряная Венера протягивала руки к другой Венере, такой же
прекрасной, как она сама.
А может
быть, это проделки Эха? Как-то раз, когда Карлик бродил по долине, он громко
окликнул Эхо, и оно, подражая его голосу, в точности повторило его слова. Не
значит ли это, что Эхо может копировать и форму предметов, причем не хуже, чем
голоса? Способно ли оно создать несуществующий мир, в точности напоминающий
реальный? Могут ли тени предметов приобретать цвет, форму и способность
двигаться, как сами предметы? Ну а что если…
Он
вздрогнул, снова повернулся лицом к чудовищу и, поднеся к губам свою прекрасную
белую розу, стал целовать ее. Но у того была точно такая же роза – вплоть до
последнего лепестка! Чудовище тоже целовало ее, с нелепейшими ужимками прижимая
к сердцу.
И тогда
страшная правда открылась ему во всей своей беспощадности, и он, издав душераздирающий
вопль отчаяния, бросился, рыдая, на пол. Значит, вот какой он на самом деле –
уродливое, горбатое, жалкое существо! Значит, он и есть то чудовище, которое
его самого напугало своим страшным видом, и дети смеялись вовсе не над его
танцем, а над ним самим! Ну а маленькая Принцесса, которая, как ему казалось,
полюбила его, попросту потешалась над его несуразной внешностью и кривыми
ногами. Ах, зачем его забрали из леса, где не было никаких зеркал, показывающих
ему, как отталкивающе он выглядит?! Почему отец не убил его, а продал этим
аристократам, которые глумятся над его уродством?! Горячие слезы текли по его
щекам, и он схватил белую розу и растерзал ее на отдельные лепестки.
Распростертое на полу чудовище сделало то же самое, а затем швырнуло горстку
нежных лепестков вверх. Когда Карлик некоторое время спустя взглянул на лежащее
ничком чудовище, оно тоже приподняло голову: лицо его было искажено страданием.
Чтобы не видеть этого, он отполз в сторону и закрыл руками глаза. Потом,
подобно раненому животному, переполз еще дальше, в тень, и так и лежал, стеная.
Когда
Инфанта и ее друзья, возвращаясь с террасы, вошли в комнату и увидели лежащего
ничком маленького уродца, который с крайне нелепым и преувеличенно
страдальческим видом колотил по полу плотно сжатыми кулачками, они так и
покатились со смеху, а затем, окружив его со всех сторон, принялись с интересом
наблюдать за ним.
– Танцевал
он очень забавно, – сказала Инфанта, обмахиваясь веером, – но как
актер он еще забавнее. Право, он играет не хуже марионеток, хотя, конечно, не
так естественно.
И она
захлопала в ладоши.
Но
Карлик так и не поднял головы, а рыдания его становились все тише и тише, и
вдруг он издал странный возглас и схватился за бок. Потом припал к полу и
затих.
– Ну,
хорошо! – нетерпеливо произнесла Инфанта, решив, что пауза чересчур
затянулась. – Теперь ты должен станцевать для меня.
– Да,
да! – поддержали ее остальные. – Вставай поскорей и танцуй, ведь ты
это умеешь не хуже макак, только у тебя получается намного смешнее.
Но
Карлик ничего не отвечал.
Инфанта
топнула ножкой и позвала своего дядю, который в это время прохаживался с камергером
по террасе, читая депеши, только что полученные из Мексики, где недавно была
учреждена Святая палата.
– Мой
смешной карлик капризничает, – крикнула она ему. – Разбуди его и
скажи ему, что он должен для меня танцевать.
Придворные,
улыбнувшись друг другу, неторопливо вошли в комнату. Дон Педро склонился над
Карликом и шлепнул его по щеке своей вышитой перчаткой.
– Ну-ка
вставай и танцуй, – сказал он. – Танцуй же, тебе говорят, petit
monstre.[22]
Инфанте Испании и обеих Индий угодно развлечься.
Но
Карлик даже не шевельнулся.
– Придется
распорядиться, чтобы его высекли, – устало проговорил дон Педро и вышел на
террасу.
А
камергер, посерьезнев, опустился рядом с карликом на колени и приложил к его
сердцу руку. Спустя несколько минут он пожал плечами, поднялся на ноги и, низко
поклонившись Инфанте, сказал:
– Mi
bella Princesa,[23]
ваш смешной карлик никогда больше танцевать не будет. А жаль – ведь он так
уродлив, что заставил бы и Короля улыбнуться.
– Но
почему он не будет танцевать? – спросила смеясь Инфанта.
– Потому
что у него разбито сердце, – ответил камергер.
Инфанта
сдвинула брови, и ее красиво очерченные губы, подобные лепесткам розы, искривились
в очаровательной гримасе презрения.
– Впредь
пусть ко мне приходят играть только те, у кого нет сердца! – воскликнула
она и убежала в сад.
|


