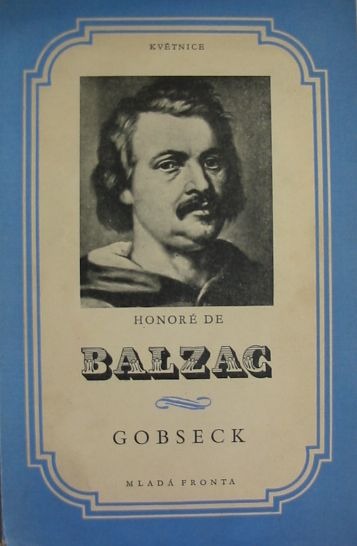
 Увеличить Увеличить |
Задумавшись,
он молчал с минуту, я же в это время разглядывал его.
– А
ну-ка, скажите, – вдруг промолвил он, – разве плохие у меня
развлечения? Разве не любопытно заглянуть в самые сокровенные изгибы
человеческого сердца? Разве не любопытно проникнуть в чужую жизнь и увидеть её
без прикрас, во всей неприкрытой наготе? Каких только картин не насмотришься!
Тут и мерзкие язвы, и неутешное горе, тут любовные страсти, нищета, которую
подстерегают воды Сены, наслаждение юноши – роковые ступени, ведущие к эшафоту,
смех отчаяния и пышные празднества. Сегодня видишь трагедию: какой-нибудь
честный труженик, отец семейства, покончил с собою, оттого что не мог
прокормить своих детей. Завтра смотришь комедию: молодой бездельник пытается
разыграть перед тобою современный вариант классической сцены обольщения Диманша
его должником! Вы, конечно, читали о хвалёном красноречии новоявленных добрых
пастырей прошлого века? Я иной раз тратил время, ходил их послушать. Им
удавалось кое в чём повлиять на мои взгляды, но повлиять на моё поведение – никогда! –
как выразился кто-то. Так знайте же, все эти ваши прославленные проповедники,
всякие там Мирабо, Верньо и прочие – просто-напросто жалкие заики по сравнению
с моими повседневными ораторами. Какая-нибудь влюблённая молодая девица, старик
купец, стоящий на пороге разорения, мать, пытающаяся скрыть проступок сына,
художник без куска хлеба, вельможа, который впал в немилость и, того и гляди,
из-за безденежья потеряет плоды своих долгих усилий, – все эти люди иной
раз изумляют меня силой своего слова. Великолепные актёры! И дают они представление
для меня одного! Но обмануть меня им никогда не удаётся. У меня взор, как у
господа бога: я читаю в сердцах. От меня ничто не укроется. А разве могут
отказать в чём-либо тому, у кого в руках мешок с золотом? Я достаточно богат,
чтобы покупать совесть человеческую, управлять всесильными министрами через их
фаворитов, начиная с канцелярских служителей и кончая любовницами. Это ли не
власть? Я могу, если пожелаю, обладать красивейшими женщинами и покупать
нежнейшие ласки. Это ли не наслаждение? А разве власть и наслаждение не
представляют собою сущности вашего нового общественного строя? Таких, как я, в
Париже человек десять; мы властители ваших судеб – тихонькие, никому не
ведомые. Что такое жизнь, как не машина, которую приводят в движение деньги?
Помните, что средства к действию сливаются с его результатами: никогда не
удастся разграничить душу и плотские чувства, дух и материю. Золото – вот духовная
сущность всего нынешнего общества. Я и мои собратья, связанные со мною общими
интересами, в определённые дни недели встречаемся в кафе «Фемида» возле Нового
моста. Там мы беседуем, открываем друг другу финансовые тайны. Ни одно самое
большое состояние не введёт нас в обман, мы владеем секретами всех видных
семейств. У нас есть своего рода «чёрная книга», куда мы заносим сведения о
государственном кредите, о банках, о торговле. В качестве духовников биржи мы
образуем, так сказать, трибунал священной инквизиции, анализируем самые на вид
безобидные поступки состоятельных людей и всегда угадываем верно. Один из нас
надзирает за судейской средой, другой – за финансовой, третий – за высшим
чиновничеством, четвёртый – за коммерсантами. А под моим надзором находится
золотая молодёжь, актёры и художники, светские люди, игроки – самая занятная
часть парижского общества. И каждый нам рассказывает о тайнах своих соседей.
Обманутые страсти, уязвлённое тщеславие – болтливы. Пороки, разочарование,
месть – лучшие агенты полиции. Как и я, мои собратья всем насладились, всем
пресытились и любят теперь только власть и деньги ради самого обладания властью
и деньгами. Вот здесь, – сказал он, поведя рукой, – в этой
холодной комнате с голыми стенами, самый пылкий любовник, который во всяком
другом месте вскипит из-за малейшего намёка, вызовет на дуэль из-за острого
словечка, молит меня, как бога, смиренно прижимая руки к груди! Проливая слёзы
бешеной ненависти или скорби, молит меня и самый спесивый купец, и самая
надменная красавица, и самый гордый военный. Сюда приходит с мольбою и
знаменитый художник, и писатель, чьё имя будет жить в памяти потомков. А вот
здесь, – добавил он, прижимая палец ко лбу, – здесь у меня весы, на
которых взвешиваются наследства и корыстные интересы всего Парижа. Ну как вам
кажется теперь, – сказал он, повернувшись ко мне бледным своим лицом, будто
вылитым из серебра, – не таятся ли жгучие наслаждения за этой холодной,
застывшей маской, так часто удивлявшей вас своей неподвижностью?
Я
вернулся к себе в комнату совершенно ошеломлённым. Этот высохший старикашка
вдруг вырос в моих глазах, стал фантастической фигурой, олицетворением власти
золота. Жизнь и люди внушали мне в эту минуту ужас.
«Да
неужели всё сводится к деньгам?» – думал я.
Помнится,
я долго не мог заснуть. Мне всё мерещились вокруг груды золота. Да и красавица
графиня очень занимала меня. Должен признаться, к стыду моему, что она совсем
затмила образ Фанни Мальво, простодушного, чистого создания, обречённого на
труд и безвестность. Но утром, в туманных грёзах пробуждения, милый девический
образ сразу возник передо мной во всей прелести, и я уже думал только о Фанни…
– Не
хотите ли выпить стакан воды с сахаром? – спросила госпожа Гранлье,
прервав Дервиля.
– С
удовольствием, – ответил он.
– Знаете,
я не вижу, какое отношение к нам имеет вся эта история, – заметила госпожа
Гранлье, позвонив в колокольчик.
– Гром
и молния! – воскликнул Дервиль, употребив любимое своё выражение. – Я
сейчас сразу прогоню сон от глаз мадемуазель Камиллы, – пусть она знает,
что её счастье совсем ещё недавно зависело от папаши Гобсека. Но так как старик
на днях умер, дожив до восьмидесяти девяти лет, господин де Ресто скоро вступит
во владение превосходным состоянием. Как и почему – это надо объяснить. А что
касается Фанни Мальво, то вы её хорошо знаете. Это моя жена.
– Друг
мой, – заметила виконтесса де Гранлье, – вы, со свойственной вам
откровенностью, пожалуй, признаетесь в этом при двадцати свидетелях!
– Да
я готов крикнуть это всему миру! – заявил стряпчий.
– Вот
вода с сахаром, пейте, милый мой Дервиль. Никогда вы ничего не достигнете, зато
будете счастливейшим и лучшим из людей.
– Я
немножко потерял нить, – сказал вдруг брат виконтессы, пробуждаясь от
сладкой дремоты. – Так вы, значит, были у какой-то графини на Гельдерской
улице. Что вы там делали?
– Через
несколько дней после моего разговора со стариком голландцем, – продолжал
свой рассказ Дервиль, – я защитил диссертацию, получил степень лиценциата
прав, затем был зачислен в коллегию стряпчих. Доверие ко мне старого скряги
Гобсека очень возросло. Он даже обращался ко мне за советами по разным своим
рискованным аферам, в которые смело пускался, собрав точные сведения, хотя даже
самый искушённый делец счёл бы их опасными. К удивлению моему, этот человек, на
которого никто ни в чём не мог повлиять, выслушивал мои советы с какой-то почтительностью.
Правда, они всегда шли ему на пользу. Но вот, проработав три года в конторе
стряпчего, я получил там должность старшего клерка и переехал с улицы Де-Грэ,
так как мой патрон, помимо ста пятидесяти франков жалованья в месяц, давал мне
теперь ещё стол и квартиру. Какой это был счастливый день для меня! Когда я
зашёл к старому ростовщику проститься, он не сказал мне ни одного дружеского
слова, не выразил никакого сожаления, не пригласил бывать у него, а только
бросил на меня взгляд, свой удивительный, необыкновенный взгляд, по которому
можно было подумать, что он обладает даром ясновидения. Однако неделю спустя
старик сам навестил меня, принёс запутанное дело об отчуждении земельного
участка, и с тех пор по-прежнему стал пользоваться моими безвозмездными
советами с такою непринуждённостью, как будто платил за них. В конце второго,
1818–1819 года, зимою, мой патрон, большой кутила и расточитель, оказался в
стеснённых обстоятельствах, вынуждавших его продать контору. Хотя в те времена
цены на патент стряпчего не достигали таких баснословных сумм, как теперь, он
запросил за своё заведение не мало – сто пятьдесят тысяч франков. Если б
деятельному, знающему и толковому стряпчему доверили такую сумму на покупку
этой конторы, он мог бы прилично жить на доходы от неё, уплачивать проценты и
за десять лет расквитаться с долгом. Но у меня гроша за душой не было, так как
отец у меня мелкий провинциальный буржуа. Я седьмой по счёту в нашей семье, а
из всех капиталистов в мире я был близко знаком только с Гобсеком… Но,
представьте, честолюбивое желание и какой-то слабый луч надежды внушили мне
дерзкую мысль обратиться к нему. И вот однажды вечером я медленным шагом
направился на улицу Де-Грэ. Сердце у меня сильно билось, когда я постучался в
двери хорошо мне знакомого угрюмого дома. Мне вспомнилось всё, что я слышал от
старого скряги в ту пору, когда я и не подозревал, какая мучительная тревога
терзает людей, переступающих порог его жилища. А вот теперь я иду проторённой
ими дорожкой и буду так же просить, как они. «Ну нет, – решил я, –
честный человек должен всегда и везде сохранять своё достоинство. Унижаться
из-за денег не стоит. Покажу себя таким же практичным, как он».
Когда я
съехал с квартиры, папаша Гобсек снял мою комнату, чтобы избавиться от соседей,
и велел в своей двери прорезать решётчатое окошечко; меня он впустил только
после того, как разглядел в это окошечко моё лицо.
– Что
ж, – сказал он пискливым голоском, – ваш патрон продаёт контору?
– Откуда
вы знаете? Он никому не говорил об этом, кроме меня.
Губы
старика раздвинулись, и в углах рта собрались складки, как на оконных
занавесках, но его немую усмешку сопровождал холодный взгляд.
– Только
этому я и обязан честью видеть вас у себя, – добавил он сухим тоном и
умолк.
Я сидел
как потерянный.
– Выслушайте
меня, папаша Гобсек, – заговорил я наконец, изо всех сил стараясь говорить
спокойно, хотя бесстрастный взгляд этого старика, не сводившего с меня светлых
блестящих глаз, смущал меня.
Он
сделал жест, означавший: «Говорите!»
– Я
знаю, что растрогать вас очень трудно. Поэтому я не стану тратить красноречия,
пытаясь изобразить вам положение нищего клерка, у которого вся надежда только
на вас, так как в целом мире ему не найти близкую душу, которой не безразлична
его будущность. Но оставим близкие души в покое, дела решаются по-деловому, без
чувствительных излияний и всяких нежностей. Положение дел вот какое. Моему
патрону контора приносит двадцать тысяч дохода в год; но я думаю, что в моих
руках она будет давать сорок тысяч. Я чувствую: вот тут есть кое-что, –
сказал я, постучав себя пальцем по лбу, – и если бы вы согласились ссудить
мне сто пятьдесят тысяч, необходимые для покупки конторы, я в десять лет
расплатился бы с вами.
– Умные
речи! – сказал Гобсек и наградил меня рукопожатием. – Никогда ещё с
тех пор, как я веду дела, ни один человек так ясно не излагал мне цели своего
посещения. А какие гарантии? – спросил он, смерив меня взглядом, и тут же
сам себе ответил: – Никаких. Сколько вам лет?
– Через
десять дней исполнится двадцать пять. Иначе я бы не мог заключать договоры.
– Правильно.
– Ну,
так как же?
– Пожалуй!
– Правда?
Тогда надо всё поскорее устроить, иначе перебьют, дадут дороже.
– Завтра
утром принесите метрическую выпись, и мы поговорим о вашем деле. Я подумаю.
Утром, в
восемь часов, я уже был у старика. Он взял у меня метрику, надел очки, откашлялся,
сплюнул, закутался поплотнее в чёрную свою крылатку и внимательно прочёл всю
метрическую выпись, от первого до последнего слова, повертел её в руках,
поглядел на меня опять, покашлял, заёрзал на стуле и сказал:
– Ну
что ж, давайте торговаться.
Я
затрепетал.
– Я
беру за кредит по-разному, – сказал он, – самое меньшее пятьдесят
процентов, сто, двести, а когда и пятьсот.
Я
побледнел.
– Ну,
а с вас по знакомству я возьму только двенадцать с половиной процентов… –
Он замялся. – Нет, не так, – с вас я возьму тринадцать процентов в
год. Подойдёт вам?
– Подойдёт, –
ответил я.
– Смотрите.
Если много, защищайтесь, Гроций[3]
(он иногда в шутку называл меня Гроцием). Я с вас прошу тринадцать
процентов, – такое уж моё ремесло. Прикиньте – под силу вам столько
платить? Я не люблю, когда человек сразу сдаётся. Ещё раз спрашиваю: не много
ль это?
– Нет, –
ответил я. – Я расплачусь, придётся только приналечь на работу.
– Вот
оно что! – заметил Гобсек, поглядывая на меня искоса лукавым
взглядом. – Значит, клиенты расплатятся?
– Ну
нет, чёрт возьми! – воскликнул я. – Сам расплачусь. Я скорее дам себе
руку отрубить, чем стану грабить людей.
– До
свидания, – сказал Гобсек.
– Гонорар
я буду брать по таксе.
– Таксы
нет на некоторые дела – например, на получение отсрочек по платежам, на полюбовные
соглашения. Тут можно брать по две, по три тысячи франков, а то и по шести
тысяч, в зависимости от важности дела, да ещё за переговоры, за разъезды, за
составление актов, всяких выписок и за говорильню в суде. Надо только уметь
находить такие дела. Я вас буду рекомендовать как очень знающего и толкового
стряпчего, стану посылать к вам клиентов, и они понатащят к вам столько
судебных исков, что ваша адвокатская братия лопнет от зависти. Мои коллеги,
Вербруст, Пальма, Жигонне, поручат вам вести дела об отчуждении земельных
участков, а у них таких дел уйма. Значит, у вас будут две клиентуры: одна по
наследству от вашего патрона, другую предоставлю вам я. Пожалуй, надо бы взять
с вас пятнадцать процентов годовых, я ведь вам полтораста тысяч даю.
– Хорошо,
пусть будет так, но не больше, – сказал я с твёрдостью, желая показать,
что это предел и что дальше я не пойду.
Гобсек
смягчился, – он, видимо, был доволен мной.
– За
контору я сам уплачу вашему патрону, – сказал он, – я постараюсь
добиться солидной скидки и с цены, и с суммы залога.
– Пожалуйста.
Обеспечьте себя какими угодно гарантиями.
– А
вы мне выдадите после этого пятнадцать векселей, каждый на десять тысяч
франков.
– Только
надо зарегистрировать эту двойную сделку и…
– Нет! –
сердито воскликнул Гобсек, прерывая меня. – Почему я должен доверять вам
больше, чем вы мне?
Я
промолчал.
– А
сверх процентов, – добавил он уже благодушным тоном, – вы будете
бесплатно, пока я жив, вести мои дела. Хорошо?
– Согласен,
но никаких расходов из своих средств производить я не буду.
– Правильно! –
сказал Гобсек. – А кстати, – добавил он с необычным для него ласковым
выражением лица, – вы позволите мне навещать вас?
– Всегда
буду рад вас видеть.
– Только
знаете, утром это и вам и мне неудобно: у вас свои дела, у меня свои.
– Приходите
по вечерам.
– Нет,
это тоже не годится, – живо возразил он. – Вам надо бывать в
обществе, встречаться с клиентами. А у меня есть приятели, мы проводим вечера в
кафе.
«Приятели?
Неужели?» – подумал я и сказал:
– Знаете
что? Будем встречаться за обедом.
– Превосходно! –
одобрил Гобсек. – После биржи, в пять часов. Условимся так: я буду приходить
к вам два раза в неделю – по средам и субботам. Мы будем беседовать о делах,
как друзья. Ого! Я иной раз бываю в весёлом расположении духа. Вы угостите меня
крылышком куропатки, бокалом шампанского, и мы с вами поболтаем. У меня в
запасе уйма занимательных историй, о которых теперь уже можно рассказывать, и
вы из них многому научитесь, узнаете людей, особенно – женщин.
– Идёт!
Куропатка и шампанское.
– Смотрите
не роскошествуйте, а то лишитесь моего доверия. Не вздумайте поставить дом на
широкую ногу. Наймите старуху кухарку, вот и вся прислуга. Я буду навещать вас,
узнавать, в добром ли вы здоровье. Ведь я вложу в вас целый капитал! Хе-хе!
Надо же мне, конечно, знать, как идут ваши дела. Ну, до свидания. Приходите под
вечер с вашим патроном.
– Разрешите
спросить, если вы не сочтёте это нескромным любопытством, – сказал я старику,
когда он проводил меня до порога, – зачем вам понадобилась моя метрическая
выпись?
Жан
Эстер ван Гобсек пожал плечами и, хитро улыбаясь, ответил:
– До
чего глупа молодёжь! Извольте знать, господин стряпчий, и запомните хорошенько,
чтоб вас не провели при случае, – ежели человеку меньше тридцати, то его
честность и дарования ещё могут служить в некотором роде обеспечением ссуды. А
после тридцати уже ни на кого полагаться нельзя.
И он
запер за мною дверь.
Три
месяца спустя я стал стряпчим, а вскоре после этого мне посчастливилось,
сударыня, выиграть тяжбы о возвращении вам вашей недвижимости. Успех этот
принёс мне некоторую известность. Хотя мне приходилось выплачивать Гобсеку
огромные проценты, я через пять лет уже расквитался с ним полностью. Я женился
на Фанни Мальво, которую полюбил всей душой. Сходство нашей с нею участи,
трудовая жизнь и успехи ещё укрепили наше взаимное чувство. Умер один из её
дядьёв, разбогатевший фермер, и она получила по наследству семьдесят тысяч франков, –
это помогло мне расплатиться с Гобсеком. А с тех пор моя жизнь – непрерывное
счастье и благополучие. Больше я о себе говорить не буду: счастливый человек –
тема нестерпимо скучная. Вернёмся к героям моей истории. Спустя год после
покупки конторы я однажды, почти против воли, попал на холостяцкую пирушку.
Один из моих приятелей давал обед, проиграв пари молодому франту, светскому
льву. Слава господина де Трай, блестящего денди, гремела тогда в салонах…
– Да
и теперь ещё гремит, – заметил граф де Борн, прерывая стряпчего. – Он
неподражаемо носит фрак, неподражаемо правит лошадьми, запряжёнными цугом. А
как Максим играет в карты, как он кушает и пьёт! Такого изящества манер в целом
мире не увидишь. Он знает толк и в скаковых лошадях, и в модных шляпах, и в
картинах. Женщины без ума от него. В год он проматывает тысяч сто, однако ж не
слыхать, чтобы у него было хоть захудалое поместье или хоть какая-нибудь рента.
Это образец странствующего рыцаря нашего времени, – странствует же он по
салонам, будуарам, бульварам нашей столицы, это своего рода амфибия, ибо в
натуре у него мужских черт столько же, сколько женских. Да, граф Максим де Трай
– существо самое странное, на всё пригодное и никуда не годное, субъект,
внушающий и страх и презрение, всезнайка и круглый невежда, способный оказать
благодеяние и совершить преступление, то подлец, то само благородство, бретёр,
больше испачканный грязью, чем запятнанный кровью, человек, которого могут терзать
заботы, но не угрызения совести, которого ощущения занимают сильнее, чем мысли,
по виду душа страстная и пылкая, а внутренне холодная, как лёд, –
блестящее соединительное звено между обитателями каторги и людьми высшего
света. Ум у Максима де Трай незаурядный, из таких людей иногда выходят Мирабо,
Питты, Ришелье, но чаще всего – графы де Хорн, Фукье-Тенвили и Коньяры.
– Так
вот, – заговорил Дервиль, внимательно выслушав брата виконтессы, – я
много слышал об этом человеке от несчастного старика Горио, одного из моих
клиентов, и старательно уклонялся от опасной чести познакомиться с ним, когда
встречал его в обществе. Но тут мой приятель так настойчиво звал меня на свой
пир, что я не мог отказаться, иначе меня ославили бы ханжой. Вам, сударыня,
трудно представить себе, что такое холостяцкий званый обед. Пышность,
редкостные блюда, во всём роскошь, как у скряги, вздумавшего из тщеславия на
один день пуститься в мотовство. Войдёшь, и глаз оторвать не можешь: какой
стройный порядок царит на накрытом столе! Сверкает серебро и хрусталь, снежной
белизной блещет камчатная скатерть. Словом, жизнь в цвету. Молодые люди
очаровательны, улыбаются, говорят тихо, похожи на женихов под венцом, и всё
вокруг них сияет девственной чистотой. А через два часа… На столе разгром, как
на бранном поле после побоища; повсюду осколки разбитых бокалов, скомканные
салфетки; на блюдах искромсанные кушанья, на которые противно смотреть; крик,
хохот, шутовские тосты, перекрёстный огонь эпиграмм и циничных острот,
побагровевшие лица, бессмысленные горящие глаза, разнузданная откровенность
душевных излияний. Шум поднимается адский: один бьёт бутылки, другой затягивает
песню, третий вызывает приятеля на дуэль, а те, глядишь, обнимаются или
дерутся. В воздухе стоит отвратительный чад, в котором смешалась целая сотня
запахов, и такой рёв, как будто кричат сто голосов разом. Никто уже не
замечает, что он ест, что пьёт и что говорит; один молчит угрюмо, другие
болтают без умолку, а кто-нибудь, точно сумасшедший, твердит всё одно и то же
слово, равномерно гудит, как колокол; другие пытаются командовать этим
сумбуром, самый искушённый предлагает поехать в злачные места. Если бы трезвый
человек вошёл сюда в это время, он, наверное, подумал бы, что попал на
вакханалию. И вот в таком диком угаре господин де Трай попытался заручиться
моим расположением. Я ещё кое-что соображал и держался настороже. Зато он
казался вдребезги пьяным, хотя в действительности был в полном рассудке и думал
только о своих делах. Уж не знаю, как это случилось, но он совсем меня
околдовал, и в девять часов вечера, выходя из гостиной де Гриньона, я пообещал,
что завтра утром свезу его к Гобсеку. Этот златоуст де Трай сумел просто с
волшебной ловкостью опутать меня своими речами, ввёртывая в них, и всегда очень
к месту, такие слова, как «честь», «благородство», «графиня», «порядочная
женщина», «добродетель», «несчастье», «отчаяние» и так далее. Утром,
проснувшись, я попытался вспомнить, что я наговорил вчера, и с трудом мог
собраться с мыслями. Наконец я припомнил, что, кажется, дочь одного из моих
клиентов попала в беду и может лишиться доброго имени, уважения и любви
супруга, если нынче утром до двенадцати часов не достанет пятидесяти тысяч
франков. Тут были замешаны и карточные долги, и счета каретника, и какие-то
растраты… Мой обаятельный собутыльник заверял меня, что эта дама довольно
богата и за несколько лет сумеет бережливостью возместить урон, который нанесла
своему состоянию. И только тут я понял, почему мой приятель так настойчиво
приглашал меня к себе. Но, признаюсь, к стыду своему, мне и на ум не приходило,
что сам Гобсек был весьма заинтересован в примирении с блистательным денди.
Едва я успел встать с постели, явился господин де Трай.
– Граф, –
сказал я, когда мы обменялись обычными любезностями, – я, право, не
понимаю, зачем вам нужно, чтобы я привёл вас к Гобсеку, – ведь он самый
учтивый и самый безобидный из всех ростовщиков. Он вам даст денег, если они
есть у него, вернее, если вы представите ему достаточные гарантии.
– Господин
Дервиль, – ответил де Трай, – я не намерен насильно требовать от вас
этой услуги, хотя вчера вы обещали мне оказать её.
«Гром и
молния! – мысленно воскликнул я. – Неужели я дам этому человеку повод
думать, будто я не умею держать слово!»
– Вчера
я имел честь объяснить вам, что очень некстати поссорился с папашей
Гобсеком, – заметил де Трай. – Ведь во всём Париже, кроме него, не
найдётся такого финансиста, который в конце месяца, пока не подведён баланс,
может выложить в одну минуту сотню тысяч. Вот я и попросил вас помирить меня с
ним. Но не будем больше говорить об этом…
И
господин де Трай, посмотрев на меня с учтиво-оскорбительной усмешкой,
направился к двери.
– Я
поеду с вами к Гобсеку, – сказал я.
Когда мы
приехали на улицу Де-Грэ, денди всё озирался вокруг с таким странным, напряжённым
вниманием, и взгляд его выражал такую тревогу, что я был поражён. Он то
бледнел, то краснел, то вдруг желтизна проступала у него на лице, а лишь только
он завидел подъезд Гобсека, на лбу у него заблестели капельки пота. Когда мы
выскочили из кабриолета, из-за угла на улицу Де-Грэ завернул фиакр. Ястребиным
своим взором молодой щёголь сразу разглядел в уголке кареты женскую фигуру, и
на его лице вспыхнула почти звериная радость. Он подозвал проходившего мимо
мальчишку и поручил ему подержать лошадь. Мы поднялись по лестнице и вошли к
старику дисконтёру.
– Господин
Гобсек, – сказал я, – вот я привёл к вам одного из самых близких моих
друзей. (Бойтесь его, как дьявола, – шепнул я на ухо старику.) Надеюсь, по
моей просьбе вы возвратите ему доброе своё расположение (за обычные проценты) и
выручите его из беды (если это вам выгодно).
Господин
де Трай низко поклонился ростовщику, сел и, приготовляясь выслушать его, принял
изящно-угодливую позу царедворца, которая пленила бы кого угодно, но мой Гобсек
сидел в кресле у камелька всё так же неподвижно, всё такой же бесстрастный. Он
походил на статую Вольтера в перистиле Французской комедии, освещённую
вечерними огнями. В качестве приветствия он лишь слегка приподнял истрёпанный
картуз, всегда покрывавший его голову, и мелькнувшая полоска голого черепа,
жёлтого, как старый мрамор, довершила это сходство.
– Деньги
у меня есть только для моих постоянных клиентов, – сказал он.
– Так
вы, значит, очень разгневались, что я к другим пошёл разоряться? –
улыбнувшись, отозвался граф.
– Разоряться? –
с иронией переспросил Гобсек.
– Вы
хотите сказать, что у кого в кармане свистит, тому и разоряться нечего? А вы
попробуйте-ка сыскать в Париже человека с таким вот солидным капиталом, как у
меня! – воскликнул этот фат и, встав, повернулся на каблуках. Шутовская
его выходка, имевшая почти серьёзный смысл, нисколько, однако, не расшевелила
Гобсека.
– А
кто у меня самые закадычные друзья? – продолжал де Трай. – Госпожа
Ронкероль, де Марсе, Франкессини, оба Ванденеса, Ажуда-Пинто – словом, самые
блестящие в Париже молодые люди. Я неизменный партнёр за карточным столом
одного принца и хорошо известного вам посланника. Я собираю доход в Лондоне, в
Карлсбаде, в Бадене, в Бате. Великолепный промысел! Разве не верно?
– Верно.
– Вы
со мной обращаетесь, как с губкой, чёрт подери! Даёте мне пропитаться золотом в
светском обществе, а в трудную для меня минуту возьмёте да выжмете. Но
смотрите, ведь и с вами то же самое случится. Смерть и вас выжмет, как губку.
– Возможно.
– Да
если б не расточители, что бы вы делали? Мы с вами друг для друг необходимы,
как душа и тело.
– Правильно.
– Ну,
дайте руку, помиримся, папаша Гобсек. И проявите великодушие, если всё это возможно,
верно и правильно.
– Вы
пришли ко мне, – холодно ответил ростовщик, – только потому, что
Жирар, Пальма, Вербруст и Жигонне по горло сыты вашими векселями и всем их
навязывают, даже с убытком для себя в пятьдесят процентов. Но выложили-то они
вам, по всей вероятности, только половину номинала, значит, векселя ваши и
двадцати пяти процентов не стоят. Нет, нет. Слуга покорный! Куда это
годится? – продолжал Гобсек. – Разве можно ссудить хоть грош
человеку, у которого долгов на триста тысяч франков, а за душой ни сантима?
Третьего дня на балу у барона Нусингена вы проиграли в карты десять тысяч.
– Милостивый
государь, – ответил граф, с редкостной наглостью смерив его взглядом, –
мои дела вас не касаются. Долг платежом красен.
– Верно.
– Мои
векселя всегда будут оплачены.
– Возможно.
– И
в данном случае весь вопрос сводится для вас к одному: могу я или не могу
представить вам достаточный залог под ссуду на ту сумму, которую я хотел бы
занять.
– Правильно.
С улицы
донёсся шум подъезжавшего к дому экипажа.
– Сейчас
я принесу вам кое-что, и вы, думается мне, будете вполне удовлетворены, –
сказал де Трай и выбежал из комнаты.
– О
сын мой! – воскликнул Гобсек, вскочив и пожимая мне руку. – Если
заклад у него ценный, ты спас мне жизнь! Ведь я чуть не умер! Вербруст и
Жигонне вздумали сыграть со мной шутку. Но благодаря тебе я сам нынче вечером
посмеюсь над ними.
В
радости этого старика было что-то жуткое. Впервые он так ликовал при мне, и,
как ни мимолётно было это мгновение торжества, оно никогда не изгладится из
моей памяти.
– Сделайте
одолжение, побудьте-ка здесь, – добавил Гобсек. – Хотя при мне
пистолеты и я уверен в своей меткости, потому что мне случалось и на тигра
ходить, и на палубе корабля драться в абордажной схватке не на жизнь, а на
смерть, я всё-таки побаиваюсь этого элегантного мерзавца.
Он
подошёл к письменному столу и сел в кресло. Лицо его вновь стало бледным и
спокойным.
– Так,
так! – сказал он, повернувшись ко мне. – Вы, несомненно, увидите
сейчас ту красавицу, о которой я когда-то рассказывал вам. Я слышу в коридоре
шаги аристократических ножек.
В самом
деле, молодой франт вошёл, ведя под руку даму, и я сразу узнал в ней одну из
дочерей старика Горио, а по описанию Гобсека – ту самую графиню, в чью
опочивальню он проник однажды. Она же сначала не заметила меня, так как я стоял
в оконной нише и тотчас повернулся лицом к стеклу.
Войдя в
сырую и тёмную комнату ростовщика, графиня бросила недоверчивый взгляд на Максима
де Трай. Она была так хороша, что я, невзирая на все её прегрешения, пожалел
её. Видно было, что сердце у неё щемит от ужасных мук, и её гордое лицо с
благородными чертами искажала плохо скрытая боль. Молодой щёголь стал её злым
гением. Я подивился прозорливости Гобсека, – уже четыре года назад он
предугадал судьбу этих двух людей по первому их векселю. «Вероятно, это
чудовище с ангельским лицом, – думал я, – властвует над ней,
пользуясь всеми её слабостями: тщеславием, ревностью, жаждой наслаждений, светской
суетностью».
– Да
и самые добродетели этой женщины, несомненно, были его оружием! –
воскликнула виконтесса. – Он пользовался её преданностью, умел разжалобить
до слёз, играл на великодушии, свойственном нашему полу, злоупотреблял её
нежностью и очень дорого продавал ей преступные радости.
– Должен
вам признаться, – заметил Дервиль, не понимая знаков, которые делала ему
госпожа де Гранлье, – я не оплакивал участи этого несчастного создания,
пленительного в глазах света и ужасного для тех, кто читал в её сердце, но я с
отвращением смотрел на её молодого спутника, сущего убийцу, хотя у него было
такое ясное чело, румяные, свежие уста, милая улыбка, белоснежные зубы и
ангельский облик. Оба они в эту минуту стояли перед своим судьёй, а он наблюдал
за ними таким взглядом, каким, верно, в шестнадцатом веке старый
монах-доминиканец смотрел на пытки каких-нибудь двух мавров в глубоком
подземелье святейшей инквизиции.
– Сударь, –
заговорила графиня срывающимся голосом, – можно получить вот за эти бриллианты
полную их стоимость, оставив, однако, за собою право выкупить их? – И она
протянула Гобсеку ларчик.
– Можно,
сударыня, – вмешался я, выходя из оконной ниши.
Графиня
быстро повернулась в мою сторону, вздрогнула, узнав меня, и бросила мне взгляд,
который на любом языке означает: «Не выдавайте».
– У
нас, юристов, такая сделка именуется «условной продажей, с правом последующего
выкупа», и состоит она в передаче движимого или недвижимого имущества на
определённый срок, по истечении коего собственность может быть возвращена
владельцу при внесении им покупщику обусловленной суммы.
Графиня
вздохнула с облегчением. Максим де Трай нахмурился, видимо, опасаясь, что при
такой сделке ростовщик даст меньше, ибо ценность бриллиантов неустойчива.
Гобсек молча схватил лупу и принялся рассматривать содержимое ларчика. Проживи
я на свете ещё сто лет, мне не забыть этой картины. Бледное лицо его
разрумянилось, глаза загорелись каким-то сверхъестественным огнём, словно в них
отражалось сверкание бриллиантов. Он встал, подошёл к окну и, разглядывая
драгоценности, подносил их так близко к своему беззубому рту, словно хотел
проглотить их. Он бормотал какие-то бессвязные слова, доставал из ларчика то
браслеты, то серьги с подвесками, то ожерелья, то диадемы, поворачивал их,
определяя чистоту воды, оттенок и грань алмазов, искал, нет ли изъяна. Он
вытаскивал их из ларчика, укладывал обратно, опять вынимал, опять поворачивал,
чтобы они заиграли всеми таившимися в них огнями. В эту минуту он был скорее
ребёнком, чем стариком, или, вернее, он был и ребёнком и стариком.
– Хороши!
Ах, хороши! Такие бриллианты до революции стоили бы триста тысяч! Чистейшей
воды! Несомненно, из Индии – из Голконды или из Висапура. Да разве вы знаете им
цену! Нет, нет, во всём Париже только Гобсек сумеет их оценить. При Империи
запросили бы больше двухсот тысяч, чтобы сделать на заказ такие уборы. – И
с досадливым жестом он добавил: – А нынче бриллианты падают в цене, с каждым
днём падают! После заключения мира Бразилия наводнила рынок алмазами, хоть они
и желтоватой воды, не такие, как индийские. Да и дамы носят теперь бриллианты
только на придворных балах. Вы, сударыня, бываете при дворе?
И,
сердито бросая эти слова, он с невыразимым наслаждением рассматривал бриллианты
один за другим.
– Хорош!
Без единого пятнышка! – бормотал он. – А вот на этом точечка! А тут
трещинка! А этот – красавец! Красавец!
Всё его
бледное лицо было освещено переливающимися отблесками алмазов, и мне пришли на
память в эту минуту зеленоватые старые зеркала в провинциальных гостиницах,
тусклое стекло которых совсем не отражает световых бликов, а смельчаку,
дерзнувшему поглядеться в них, преподносит образ человека, умирающего от
апоплексического удара.
– Ну
так как же? – спросил граф, хлопнув Гобсека по плечу.
Старый
младенец вздрогнул. Он оторвался от любимых игрушек, положил их на письменный
стол, сел в кресло и вновь стал только ростовщиком, учтивым, но холодным и
жёстким, как мраморный столб.
– Сколько
вы желали бы занять?
– Сто
тысяч. На три года, – ответил граф.
– Что
ж, можно, – согласился Гобсек, осторожно доставая из шкатулки красного
дерева свою драгоценность – неоценимые, точнейшие весы. Он взвесил бриллианты,
определяя на глаз (бог весть как!) вес старинной оправы. Во время этой операции
лицо его выражало и ликование и стремление побороть его. Графиня словно
оцепенела, погрузившись в раздумье; и я порадовался за неё, – мне
казалось, что эта женщина увидела вдруг, в какую глубокую пропасть она скатилась.
Значит, совесть у неё ещё не совсем заглохла, и, может быть, достаточно только
некоторого усилия, достаточно лишь протянуть сострадательную руку, чтобы спасти
её. И я сделал попытку.
– Это
ваши собственные бриллианты, сударыня? – спросил я.
– Да,
сударь, – ответила она, надменно взглянув на меня.
– Пишите
акт о продаже с последующим выкупом, болтун, – сказал Гобсек и, встав
из-за стола, указал мне рукой на своё кресло.
– Вы,
сударыня, вероятно, замужем? – задал я второй вопрос.
Графиня
нетерпеливо кивнула головой.
– Я
отказываюсь составлять акт! – воскликнул я.
– Почему
это? – спросил Гобсек.
– Как
«почему»? – возмутился я и, отведя старика к окну, вполголоса сказал: –
Замужняя женщина во всём зависит от мужа, сделка будет признана незаконной, а
вам не удастся сослаться на своё неведение, раз налицо будет акт. Вам придётся
предъявить эти бриллианты, так как в акте будут указаны их вес, стоимость и
грань.
Гобсек
прервал меня кивком головы и повернулся к двум преступникам.
– Он
прав. Условия меняются. Восемьдесят тысяч наличными, а бриллианты останутся у меня, –
добавил он глухим и тоненьким голоском. – При сделках на движимое
имущество собственность лучше всяких актов.
– Но… –
заговорил было де Трай.
– Соглашайтесь
или берите обратно, – перебил его Гобсек и протянул ларчик графине. –
Я не хочу рисковать.
– Гораздо
лучше для вас броситься к ногам мужа, – шепнул я графине.
Ростовщик
понял по движению моих губ, что я сказал, и бросил на меня холодный взгляд.
Молодой
щёголь побледнел как полотно. Графиня явно колебалась. Максим де Трай подошёл к
ней, и, хотя он говорил очень тихо, я расслышал слова: «Прощай, дорогая
Анастази. Будь счастлива. А я… Завтра я уже избавлюсь от всех забот».
– Сударь! –
воскликнула графиня, быстро повернувшись к Гобсеку. – Я согласна, я принимаю
ваши условия.
– Ну
вот и хорошо! – отозвался старик. – Трудно вас уломать, красавица
моя. – Он подписал банковский чек на пятьдесят тысяч и вручил его
графине. – А вдобавок к этому, – сказал он с улыбкой, очень похожей
на вольтеровскую, – я в счёт остальной платёжной суммы даю вам на тридцать
тысяч векселей, самых бесспорных, самых для вас надёжных. Всё равно что золотом
выложу эту сумму. Граф де Трай только что сказал мне: «Мои векселя всегда
будут оплачены», – добавил Гобсек, подавая графине векселя, подписанные
графом, опротестованные накануне одним из собратьев Гобсека и, вероятно,
проданные ему за бесценок.
Максим
де Трай разразился рычанием, в котором явственно прозвучали слова: «Старый подлец!»
Гобсеки
бровью не повёл, спокойно достал из картонного футляра пару пистолетов и холодно
сказал:
– Первый
выстрел за мной, по праву оскорблённой стороны.
– Максим! –
тихо вскрикнула графиня, – извинитесь. Вы должны извиниться перед господином
Гобсеком.
– Сударь,
я не имел намерения оскорбить вас, – пробормотал граф.
– Я
это прекрасно знаю, – спокойно ответил Гобсек. – В ваши намерения входило
только не заплатить по векселям.
Графиня
встала и, поклонившись, выбежала, видимо, охваченная ужасом. Графу де Трай
пришлось последовать за ней, но на прощанье он сказал:
– Если
вы хоть словом обмолвитесь обо всём этом, господа, прольётся ваша или моя
кровь.
– Аминь! –
ответил ему Гобсек, пряча пистолеты. – Чтобы пролить свою кровь, надо её
иметь, милый мой, а у тебя в жилах вместо крови – грязь.
Когда
хлопнула наружная дверь и оба экипажа отъехали, Гобсек вскочил с места и, приплясывая,
закричал:
– А
бриллианты у меня! А бриллианты-то мои! Великолепные бриллианты! Дивные бриллианты!
И как дёшево достались! А-а, господа Вербруст и Жигонне! Вы думали поддеть
старика Гобсека? А я сам вас поддел! Я всё получил сполна! Куда вам до меня!
Мелко плаваете! Какие у них глупые будут рожи, когда я расскажу нынешнюю
историю между двумя партиями в домино!
Эта
свирепая радость, это злобное торжество дикаря, завладевшего блестящими
камешками, ошеломили меня. Я остолбенел, онемел.
– Ах,
ты ещё тут, голубчик! Я и забыл совсем. Мы нынче пообедаем вместе. У тебя
пообедаем, – я ведь не веду хозяйства, а все эти рестораторы с их
подливками да соусами, с их винами – сущие душегубы. Они самого дьявола
отравят.
Заметив
наконец выражение моего лица, он сразу вернулся к холодной бесстрастности.
– Вам
этого не понять, – сказал он, усаживаясь у камина, где стояла на жаровне
жестяная кастрюлька с молоком. – Хотите позавтракать со мной? –
добавил он. – Пожалуй, и на двоих хватит.
– Нет,
спасибо, – ответил я. – Я всегда завтракаю в полдень.
В эту
минуту в коридоре послышались чьи-то торопливые шаги.
Кто-то
остановился у дверей Гобсека и яростно постучал в них. Ростовщик направился к порогу
и, поглядев в окошечко, отпер двери. Вошёл человек лет тридцати пяти, вероятно
показавшийся ему безобидным, несмотря на свой гневный стук.
Посетитель
одет был просто, а наружностью напоминал покойного герцога Ришелье. Это был
супруг графини, и вы, вероятно, встречали его в свете: у него была, прошу
извинить меня за это определение, вельможная осанка государственных мужей,
обитателей вашего предместья.
– Сударь, –
сказал он Гобсеку, к которому вернулось всё его спокойствие, – моя жена
была у вас?
– Возможно.
– Вы
что же, сударь, не понимаете меня?
– Не
имею чести знать вашу супругу, – ответил ростовщик. – У меня нынче
утром перебывало много народу – мужнины, женщины, девицы, похожие на юношей, и
юноши, похожие на девиц. Мне, право, трудно…
– Шутки
в сторону, сударь! Я говорю о своей жене. Она только что была у вас.
– Откуда
же мне знать, что эта дама – ваша супруга? Я не имел удовольствия встречаться с
вами.
– Ошибаетесь,
господин Гобсек, – сказал граф с глубокой иронией. – Мы встретились с
вами однажды утром в спальне моей жены. Вы приходили взимать деньги по векселю,
по которому она никаких денег не получала.
– А
уж это не моё дело – разузнавать, какими ценностями ей была возмещена эта
сумма, – возразил Гобсек, бросив на графа ехидный взгляд. – Я учёл её
вексель при расчётах с одним из моих коллег. Кстати, позвольте заметить вам,
граф, – добавил Гобсек без малейшей тени волнения, неторопливо засыпав
кофе в молоко, – позвольте заметить вам, что, по моему разумению, вы не
имеете права читать мне нотации в собственном моём доме. Я, сударь, достиг совершеннолетия
ещё в шестьдесят первом году прошлого века.
– Милостивый
государь, вы купили у моей жены по крайне низкой цене бриллианты, не
принадлежащие ей, – это фамильные драгоценности.
– Я
не считаю себя обязанным посвящать вас в тайны моих сделок, но скажу вам,
однако, что если графиня и взяла у вас без спросу бриллианты, вам следовало
предупредить письменно всех ювелиров, чтобы их не покупали, – ваша супруга
могла продать бриллианты по частям.
– Сударь! –
воскликнул граф. – Вы ведь знаете мою жену!
– Верно.
– Как
замужняя женщина, она подчиняется мужу.
– Возможно.
– Она
не имела права распоряжаться бриллиантами!
– Правильно.
– Ну,
так как же, сударь?
– А
вот как! Я знаю вашу жену, она подчинена мужу, – согласен с вами; ей ещё и
другим приходится подчиняться, – но ваших бриллиантов я не знаю. Если
ваша супруга подписывает векселя, то, очевидно, она может и заключать
коммерческие сделки, покупать бриллианты или брать их на комиссию для продажи.
Это бывает.
– Прощайте,
сударь! – воскликнул граф, бледнея от гнева. – Существует суд.
– Правильно.
– Вот
этот господин, – добавил граф, указывая на меня, – был свидетелем
продажи.
– Возможно.
Граф
направился к двери.
Видя,
что дело принимает серьёзный оборот, я решил вмешаться и примирить противников.
– Граф, –
сказал я, – вы правы, но и господин Гобсек не виноват. Вы не можете
привлечь его к суду, оставив вашу жену в стороне, а этим процессом будет
опозорена не только она одна. Я стряпчий и, как должностное лицо, да и просто
как порядочный человек, считаю себя обязанным подтвердить, что продажа
произведена в моём присутствии. Но я не думаю, что вам удастся расторгнуть эту
сделку как незаконную, и нелегко будет установить, что проданы именно ваши бриллианты.
По справедливости вы правы, но по букве закона вы потерпите поражение. Господин
Гобсек – человек честный и не станет отрицать, что купил бриллианты очень
выгодно для себя, да и я по долгу и по совести засвидетельствую это. Но если вы
затеете тяжбу, исход её крайне сомнителен. Советую вам пойти на мировую с
господином Гобсеком. Он ведь может доказать на суде свою добросовестность, а
вам всё равно придётся вернуть сумму, уплаченную им. Согласитесь считать свои
бриллианты в закладе на семь, на восемь месяцев, даже на год, если раньше этого
срока вы не в состоянии вернуть деньги, полученные графиней. А может быть, вы
предпочтёте выкупить их сегодня же, представив достаточные для этого гарантии?
|


