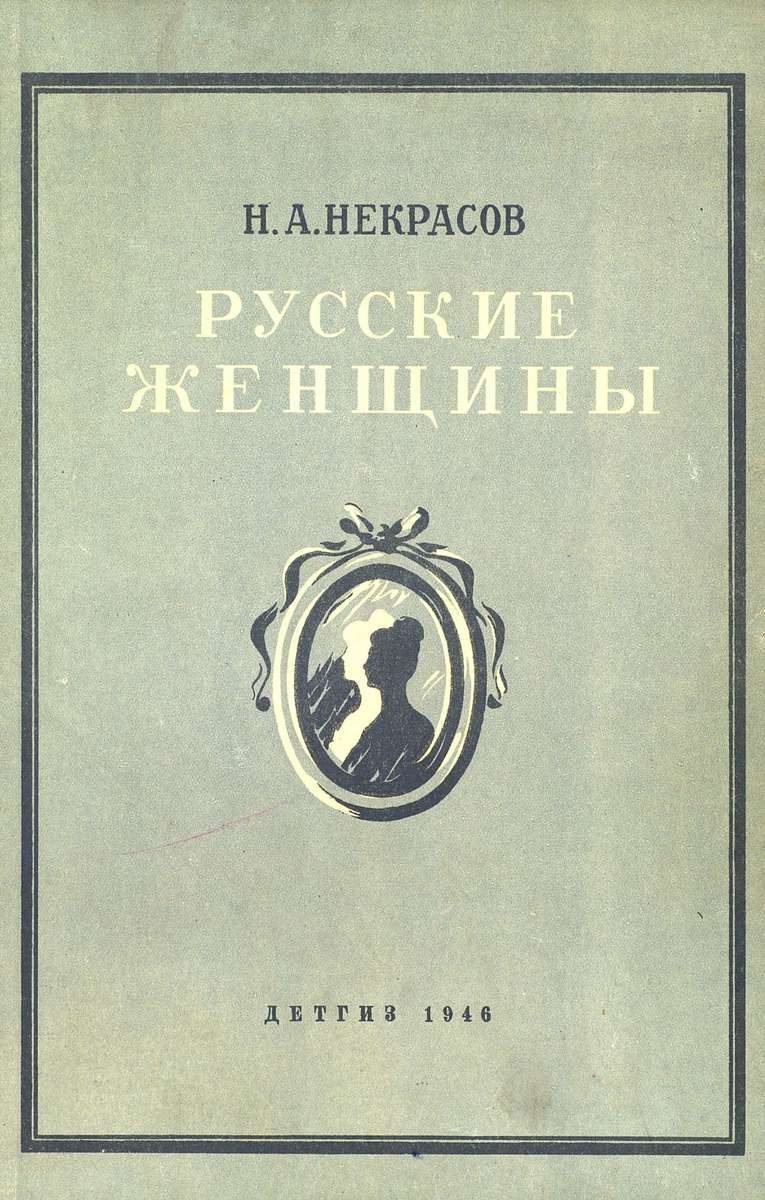
 Увеличить Увеличить |
Глава VI

Кто знал одиночество в дальнем пути,
Чьи спутники – горе да вьюга,
Кому провиденьем дано обрести
В пустыне негаданно друга,
Тот нашу взаимную радость поймет…
– Устала, устала я, Maшa! –
«Не плачь, моя бедная Катя! Спасет
Нас дружба и молодость наша!
Нас жребий один неразрывно связал,
Судьба нас равно обманула,
И тот же поток твое счастье умчал,
В котором мое потонуло.
Пойдем же мы об руку трудным путем,
Как шли зеленеющим лугом,
И обе достойно свой крест понесем
И будем мы сильны друг другом.
Что мы потеряли? подумай, сестра!
Игрушки тщеславья… Немного!
Теперь перед нами дорога добра,
Дорога избранников Бога!
Найдем мы униженных, скорбных мужей.
Но будем мы им утешеньем,
Мы кротостью нашей смягчим палачей,
Страданье осилим терпеньем.
Опорою гибнущим, слабым, больным
Мы будем в тюрьме ненавистной
И рук не положим, пока не свершим
Обета любви бескорыстной!..
Чиста наша жертва, – мы все отдаем
Избранникам нашим и Богу.
И верю я: мы невредимо пройдем
Всю трудную нашу дорогу…»
Природа устала с собой воевать –
День ясный, морозный и тихий.
Снега под Нерчинском явились опять,
В санях покатили мы лихо…
О ссыльных рассказывал русский ямщик
(Он знал их фамилии даже):
– На этих конях я возил их в рудник,
Да только в другом экипаже.
Должно быть, дорога легка им была:
Шутили, смешили друг дружку;
На завтрак ватрушку мне мать испекла,
Так я подарил им ватрушку,
Двугривенный дали – я брать не хотел:
«Возьми, паренек, пригодится…»
Болтая, он живо в село прилетел.
– Ну, барыни! где становиться? –
«Вези нас к начальнику прямо в острог».
– Эй, други, не дайте в обиду!
Начальник был тучен и, кажется, строг,
Спросил, по какому мы виду?
«В Иркутске читали инструкцию нам
И выслать в Нерчинск обещали…»
– Застряла, застряла, голубушка, там! –

«Вот копия, нам ее дали…»
– Что копия? с ней попадешься впросак!
«Вот царское вам позволенье!»
Не знал по‑французски упрямый чудак,
Не верил нам, – смех и мученье!
«Вы видите подпись царя: Николай?»
До подписи нет ему дела,
Ему из Нерчинска бумагу подай!
Поехать за ней я хотела,
Но он объявил, что отправится сам
И к утру бумагу добудет.
«Да точно ли?…» – Честное слово! А вам
Полезнее выспаться будет!..

И мы добрались до какой‑то избы,
О завтрашнем утре мечтая;
С оконцем из слюды, низка, без трубы,
Была наша хата такая,
Что я головою касалась стены,
А в дверь упиралась ногами;
Но мелочи эти нам были смешны,
Не то уж случалося с нами.
Мы вместе! теперь бы легко я снесла
И самые трудные муки…
Проснулась я рано, а Катя спала,
Пошла по деревне от скуки:
Избушки такие ж, как наша, числом
До сотни, в овраге торчали,
А вот и кирпичный с решетками дом!
При нем часовые стояли.
«Не здесь ли преступники?» – Здесь, да ушли. –
«Куда?» – На работу вестимо! –
Какие‑то дети меня повели…
Бежали мы все – нестерпимо
Хотелось мне мужа увидеть скорей;
Он близко! Он шел тут недавно!
«Вы видите их?» – я спросила детей.
– Да, видим! Поют они славно!
Вон дверца… гляди же! Пойдем мы теперь,
Прощай!.. – Убежали ребята…
И словно под землю ведущую дверь
Увидела я – и солдата.
Сурово смотрел часовой, – наголо
В руке его сабля сверкала.
Не золото, внуки, и здесь помогло,
Хоть золото я предлагала!
Быть может, вам хочется дальше читать,
Да просится слово из груди!
Помедлим немного. Хочу я сказать
Спасибо вам, русские люди!
В дороге, в изгнанье, где я ни была,
Всё трудное каторги время,
Народ! я бодрее с тобою несла
Мое непосильное бремя.
Пусть много скорбей тебе пало на часть,
Ты делишь чужие печали,
И где мои слезы готовы упасть,
Твои уж давно там упали!..
Ты любишь несчастного, русский народ!
Страдания нас породнили…
«Вас в каторге самый закон не спасет!» –
На родине мне говорили;
Но добрых людей я встречала и там,
На крайней ступени паденья,
Умели по‑своему выразить нам
Преступники дань уваженья;
Меня с неразлучною Катей моей
Довольной улыбкой встречали:
«Вы – ангелы наши!» За наших мужей
Уроки они исполняли.
Не раз мне украдкой давал из полы
Картофель колодник клейменый:
«Покушай! горячий, сейчас из золы!»
Хорош был картофель печеный,
Но грудь и теперь занывает с тоски,
Когда я о нем вспоминаю…
Примите мой низкий поклон, бедняки!
Спасибо вам всем посылаю! Спасибо!..
Считали свой труд ни во что
Для нас эти люди простые,
Но горечи в чашу не подлил никто,
Никто – из народа, родные!..
Рыданьям моим часовой уступил,
Как Бога, его я просила!
Светильник (род факела) он засветил,
В какой‑то подвал я вступила
И долго спускалась всё ниже; потом
Пошла я глухим коридором,
Уступами шел он; темно было в нем
И душно; где плесень узором
Лежала; где тихо струилась вода
И лужами книзу стекала.
Я слышала шорох; земля иногда
Комками со стен упадала;
Я видела страшные ямы в стенах;
Казалось, такие ж дороги
От них начинались. Забыла я страх,
Проворно несли меня ноги!
И вдруг я услышала крики: «Куда,
Куда вы? Убиться хотите?
Ходить не позволено дамам туда!
Вернитесь скорей! Погодите!»
Беда моя! видно, дежурный пришел
(Его часовой так боялся),
Кричал он так грозно, так голос был зол,
Шум скорых шагов приближался…
Что делать? Я факел задула. Вперед
Впотьмах наугад побежала…
Господь, коли хочет, везде проведет!
Не знаю, как я не упала,
Как голову я не оставила там!
Судьба берегла меня. Мимо
Ужасных расселин, провалов и ям
Бог вывел меня невредимо:
Я скоро увидела свет впереди,
Там звездочка словно светилась…
И вылетел радостный крик из груди:
«Огонь!» Я крестом осенилась…
Я сбросила шубу… Бегу на огонь,
Как Бог уберег во мне душу!
Попавший в трясину испуганный конь
Так рвется, завидевши сушу…

И стало, родные, светлей и светлей!
Увидела я возвышенье:
Какая‑то площадь… и тени на ней…
Чу… молот! работа, движенье…
Там люди! Увидят ли только они?
Фигуры отчетливей стали…
Вот ближе, сильней замелькали огни.
Должно быть, меня увидали…
И кто‑то, стоявший на самом краю,
Воскликнул: «Не ангел ли Божий?
Смотрите, смотрите!» – Ведь мы не в раю:
Проклятая шахта похожей
На ад! – говорили другие, смеясь,
И быстро на край выбегали,
И я приближалась поспешно. Дивясь,
Недвижно они ожидали.

«Волконская!» – вдруг закричал Трубецкой
(Узнала я голос). Спустили
Мне лестницу; я поднялася стрелой!
Всё люди знакомые были:
Сергей Трубецкой, Артамон Муравьев,
Борисовы, князь Оболенской…
Потоком сердечных, восторженных слов,
Похвал моей дерзости женской
Была я осыпана; слезы текли
По лицам их, полным участья…
Но где же Сергей мой? «За ним уж пошли,
Не умер бы только от счастья!
Кончает урок: по три пуда руды
Мы в день достаем для России,
Как видите, нас не убили труды!»
Веселые были такие,
Шутили, но я под веселостью их
Печальную повесть читала.
(Мне новостью были оковы на них,
Что их закуют – я не знала…)
Известьем о Кате, о милой жене,
Утешила я Трубецкого;
Все письма, по счастию, были при мне,
С приветом из края родного
Спешила я их передать. Между тем
Внизу офицер горячился:
«Кто лестницу принял? Куда и зачем
Смотритель работ отлучился?
Сударыня! Вспомните слово мое,
Убьетесь!.. Эй, лестницу, черти!
Живей!.. (Но никто не подставил ее…)
Убьетесь, убьетесь до смерти!
Извольте спуститься! да что ж вы?…» Но мы
Всё вглубь уходили… Отвсюду
Бежали к нам мрачные дети тюрьмы,
Дивясь небывалому чуду.
Они пролагали мне путь впереди,
Носилки свои предлагали…
Орудья подземных работ на пути,
Провалы, бугры мы встречали.
Работа кипела под звуки оков,
Под песни – работа над бездной!
Стучались в упругую грудь рудников
И заступ и молот железный.
Там с ношею узник шагал по бревну,
Невольно кричала я: «Тише!»
Там новую мину вели в глубину,
Там люди карабкались выше
По шатким подпоркам… Какие труды!
Какая отвага!.. Сверкали
Местами добытые глыбы руды
И щедрую дань обещали…
Вдруг кто‑то воскликнул: «Идет он! идет!»
Окинув пространство глазами,
Я чуть не упала, рванувшись вперед, –
Канава была перед нами.
«Потише, потише! Ужели затем
Вы тысячи верст пролетели, –
Сказал Трубецкой, – чтоб на горе нам всем
В канаве погибнуть – у цели?»
И за руку крепко меня он держал:
«Что б было, когда б вы упали?»
Сергей торопился, но тихо шагал.
Оковы уныло звучали.
Да, цепи! Палач не забыл никого
(О, мстительный трус и мучитель!), –
Но кроток он был, как избравший его
Орудьем своим искупитель.
Пред ним расступались, молчанье храня,
Рабочие люди и стража…
И вот он увидел, увидел меня!
И руки простер ко мне: «Маша!»
И стал, обессиленный словно, вдали…
Два ссыльных его поддержали.
По бледным щекам его слезы текли,
Простертые руки дрожали…
Душе моей милого голоса звук
Мгновенно послал обновленье,
Отраду, надежду, забвение мук,
Отцовской угрозы забвенье!
И с криком «иду!» я бежала бегом,
Рванув неожиданно руку,
По узкой доске над зияющим рвом
Навстречу призывному звуку…
«Иду!..» Посылало мне ласку свою
Улыбкой лицо испитое…
И я побежала… И душу мою
Наполнило чувство святое.
Я только теперь, в руднике роковом,
Услышав ужасные звуки,
Увидев оковы на муже моем,
Вполне поняла его муки,
И силу его… и готовность страдать!
Невольно пред ним я склонила
Колени, – и, прежде чем мужа обнять,
Оковы к губам приложила!..

И тихого ангела Бог ниспослал
В подземные копи – в мгновенье
И говор, и грохот работ замолчал,
И замерло словно движенье,
Чужие, свои – со слезами в глазах,
Взволнованны, бледны, суровы –
Стояли кругом. На недвижных ногах
Не издали звука оковы,
И в воздухе поднятый молот застыл…
Всё тихо – ни песни, ни речи…
Казалось, что каждый здесь с нами делил
И горечь, и счастие встречи!
Святая, святая была тишина!
Какой‑то высокой печали,
Какой‑то торжественной думы полна.
«Да где же вы все запропали?» –
Вдруг снизу донесся неистовый крик.
Смотритель работ появился.
«Уйдите! – сказал со слезами старик. –
Нарочно я, барыня, скрылся,
Теперь уходите. Пора! Забранят!
Начальники люди крутые…»
И словно из рая спустилась я в ад…
И только… и только, родные!
По‑русски меня офицер обругал,
Внизу ожидавший в тревоге,
А сверху мне муж по‑французски сказал:
«Увидимся, Маша, – в остроге!..»

[1] Впервые:
Отечественные записки. 1872. № 4.
Поэма написана в Карабихе летом 1871 года. Основной пафос ее
заключается в прославлении духовной красоты русской женщины. Об этом
свидетельствует желание Некрасова включить в примечания к поэме цитату из пятой
части романа И. А. Гончарова «Обрыв»: «С такою же силою скорби шли в заточение
с нашими титанами, колебавшими небо, их жены, боярыни и княгини, сложившие свой
сан, титул, но унесшие с собой силу женской души и великой красоты, которой до
сих пор не знали за собой они сами, не знали за ними и другие и которую они,
как золото в огне, закаляли в огне и в дыму грубой работы, служа своим мужьям‑князьям
и неся и их, и свою „беду“. И мужья, преклоняя колена перед этой новой для них
красотой, мужественнее несли кару. Обожженные, изможденные трудом и горем, они
хранили величие духа и сияли, среди испытания, нетленной красотой, как великие
статуи, пролежавшие тысячелетие в земле, выходили с язвами времени на теле, но
сияющие вечной красотой великого мастера». (Гончаров И. А. Собр. соч.: В
8 т. М., 1954. Т. 6. С. 325.) Только по личной просьбе Гончарова Некрасов
вынужден был убрать из примечаний этот значимый и важный для него отрывок.
К числу источников, которыми пользовался Некрасов в ходе
работы над поэмой, принадлежали «Записки декабриста» А. Е. Розена и работа С.
В. Максимова «Сибирь и каторга», впервые печатавшаяся в 1869 году в
«Отечественных записках» (№ 1–5, 8‑10). Используя фактическую основу этих
произведений, Некрасов рисует картину восстания, поединок княгини Трубецкой с
иркутским губернатором И. Б. Цейдлером.
[2] И
эту площадь перед ней С героем на коне… – Имеется в виду Сенатская
площадь с Медным всадником – памятником Петру Великому скульптора Э. Фальконе.
[3] А
ты будь проклят, мрачный дом… – Имеется в виду Зимний дворец. Княгиня
вспоминает о великосветском придворном бале и о танце с наследником, будущим
государем Николаем I. Французское семейство Лаваль, к которому она
принадлежала, занимало видное положение в петербургском обществе.
[4] Богатство,
блеск! Высокий дом На берегу Невы… – дом отца княгини, графа И. С.
Лаваля, на Английской набережной в Петербурге, где прошли детские и юношеские
годы княгини Трубецкой.
[5] Плюмажи
– украшения из птичьих перьев на мужских головных уборах.
[6] По
Ватикану бродишь ты… – Ватикан – папский дворец в Риме со
знаменитой Сикстинской капеллой, с фресками Микеланджело, Рафаэля, с картинной
галереей, музеем античной скульптуры, собранием надписей и надгробных плит,
египетским, этрусским музеем и библиотекой, замечательнейшей в Европе по числу
редких рукописей.
[7] Зонтообразных
пинн… – Имеются в виду пинии – деревья из семейства еловых с
зонтикообразной кроной, растущие в Средиземноморье.
[8] Зато
посмеивался в ус Столичный куафер… – Куафер – парикмахер.
Здесь имеется в виду французский парикмахер‑эмигрант, бывший свидетелем Великой
французской революции (1789–1793) и понимающий, что нечто подобное происходит
14 декабря 1825 года на Сенатской площади в Петербурге.
[9] Какой‑то
бравый генерал ‹…› Убили и того… – Во время восстания 14 декабря 1825
года были убиты герой Отечественной войны генерал М. А. Милорадович
(1771–1825), пытавшийся уговорить солдат не бунтовать и вернуться в казармы,
обещавший им прощение от лица государя, и командир лейб‑гвардии Гренадерского
полка полковник Н. К. Стюрлер.
[10] Явился
и сам митрополит… – петербургский митрополит Серафим, увещевавший
солдат смириться и покаяться.
[11] Усатый
инвалид… – Инвалидом в дореволюционной России назывался любой старый
солдат‑ветеран.
[12] Почтенный
бригадир. – В России начала XIX века бригадир – военный чин
между полковником и генерал‑майором.
[13] Имел
я счастье графа знать. Семь лет служил при нем… – Граф Иван
Степанович Лаваль, отец княгини Трубецкой, приехавший в Россию в начале
Французской революции, при Александре I был членом Главного правления училищ.
Гражданский губернатор Иркутска Иван Богданович Цейдлер, человек гуманный и
просвещенный, с 1819 года всеми мерами старался поднять просвещение в крае,
пользуясь в своих начинаниях поддержкой И. С. Лаваля.
[14] Там
люди редки без клейма… – У преступников, осужденных на каторжные
работы, выжигались на теле неизгладимые знаки, свидетельствовавшие о
совершенном ими преступлении или понесенном наказании. Клеймение преступников
было отменено на Руси Манифестом 17 апреля 1863 года.
[15] Варнаки
– разбойники из среды беглых или отбывших срок каторжников.
[16] Где
были дубы до небес… – Имеются в виду декабристы, казненные или
сосланные в Сибирь Николаем I.
[17] Впервые:
Отечественные записки. 1873. № 1.
Поэма написана летом 1872 года в Карабихе. Основным
источником ее явились «Записки» княгини М. Н. Волконской, дочери генерала Н. Н.
Раевского, прославленного героя Отечественной войны 1812 года, жены декабриста
С. Г. Волконского. Некрасова познакомил с «Записками» сын княгини, М. С.
Волконский, который писал в своих воспоминаниях: «Некрасов по‑французски не
знал, и я должен был читать, переводя по‑русски, причем он делал заметки
карандашом в принесенной им тетради. В три вечера чтение было закончено.
Вспоминаю, как при этом Николай Алексеевич по несколько раз в вечер вскакивал и
со словами: „Довольно, не могу“, – бежал к камину, садился к нему и,
схватываясь руками за голову, плакал, как ребенок. Тут я видел, насколько наш
поэт жил нервами и какое место они должны были занимать в его творчестве».
Когда поэма была закончена, Некрасов давал ее читать М. С.
Волконскому и А. С. Суворину. По их замечаниям он дорабатывал поэму, устраняя
несущественные детали и подробности. 30 октября 1872 года М. С. Волконский
писал Некрасову: «Возьмем, например, рассказ о родах. Он представлял бы еще
интерес, случись все это в Сибири, среди лишений, но здесь, среди богатства и
удобств, – это только игра случая, от которого поэма ничего не выигрывает;
между тем рассказ о том семейном событии, подробности которого я, самый близкий
ему человек, не решусь передать другому близкому мне человеку, – переходит
в публику! Сделайте одолжение, выпустите его совсем, т. е. присутствие
отца, разговор с матерью, появление деревенской бабки».
Некрасов согласился с этим пожеланием, но в ряде случаев
поступил по‑своему: не исключил в «Княгине Трубецкой», как ему советовал М. С.
Волконский, строк, бичующих высший свет; свидание княгини Волконской с мужем он
не перенес в острог, а оставил в шахте рудника. «Не все ли Вам равно, –
писал он по этому поводу М. С. Волконскому, – с кем встретилась там
княгиня: с мужем или с дядею Давыдовым; они оба работали под землею, а эта
встреча у меня так красиво выходит!» Благодаря встрече в шахте финал поэмы
приобретал устойчивые христианские ассоциации: возникала скрытая параллель с
любимым в народе апокрифом «Хождение Богородицы по мукам».
Поэт хотел продолжать замысел: героиней следующей поэмы он
предполагал сделать А. Г. Муравьеву, ввести описание самой жизни декабристок в
Сибири. Но осуществить этот замысел он не смог по двум названным им причинам:
«1) цензурное пугало, повелевающее касаться предметов только сторонкой, 2)
крайняя неподатливость русских аристократов на сообщение фактов, хотя бы и для
такой цели, как моя, т. е. для прославления». К тому же творческие силы
Некрасова в этот момент переключились на завершение поэмы «Кому на Руси жить
хорошо».
«Русские женщины» привлекли внимание широких кругов
читателей. 26 февраля 1873 года Некрасов писал брату Федору Алексеевичу: «Моя
поэма „Кн. Волконская“, которую я написал летом в Карабихе, имеет такой успех,
какого не имело ни одно из моих прежних писаний… Литературные шавки меня
щиплют, а публика читает и раскупает».
Поэмой остались недовольны аристократы. Сестра М. Н.
Волконской С. Н. Раевская возмущалась: «Рассказ, который он (Некрасов. – Ю.
Л.) вкладывает в уста моей сестры, был бы вполне уместен в устах какой‑нибудь
мужички. В нем нет ни благородства, ни знания той роли, которую он заставляет
ее играть». 20 марта 1873 года П. В. Анненков писал Некрасову: «Этой картине
недостает только одного мотива, чтобы сделать ее также и несомненно верной
исторической картиной, – именно благородного аристократического мотива,
который двигал сердца этих женщин. Вы благоговеете перед ними и перед
великостью их подвига – и это хорошо, справедливо и честно, но ничто не
возбраняет поэту показать и знание основных причин их доблести и поведения –
гордости своим именем и обязанности быть оптиматами, высшей людской породой во
всяком случае».
Эти критики не брали в расчет, что Некрасов неспроста снял
название «Декабристки» и ввел другое – «Русские женщины»: широта поставленной
задачи требовала от поэта придать героиням общенациональное звучание, высветив
в них православно‑христианские духовно‑нравственные устои и почти приглушив в
их поведении мотивы, связанные с дворянским аристократическим кодексом чести.
Исключением из аристократической части публики явился отзыв
графа П. И. Капниста, почувствовавшего именно эту, христианскую, основу поэмы.
«Чудная вещь! Высокая поэзия и высокий подвиг современного русского
поэта! – писал он Некрасову. – В теперешнее время прискорбной
междоусобной розни нашей Вы нашли благородное примирение, изобразив, как
великая скорбь вызывает великое чувство, свойственное русской душе, заглушённой
мелочными условиями света, и как в этой скорби и в этом чувстве высшие и низшие
слои общества сливаются в бесконечной и божественной любви».
Русская консервативная критика в лице В. Г. Авсеенко
представила поэму плоской по мысли, а также несовершенной в художественном
отношении. Либерально настроенный В. П. Буренин заявлял, что после реформы 1861
года «гражданская скорбь, имевшая когда‑то значение могучего жизненного
стимула, утратила свой прежний смысл, потому что обратилась в неискреннее,
изученное, плохое фиглярство». Вторую часть поэмы Буренин упрекал в
натурализме, в слепом копировании мемуаров Волконской; финальная сцена,
повествующая о встрече княгини с мужем, казалась ему «мелодраматичной»,
основанной на «фальшивом гражданском эффекте». (Санкт‑Петербургские ведомости.
1873. № 27. 27 янв.)
В защиту поэмы от нападок критики выступили тогда И. А.
Кущевский, А. С. Суворин и критик народнической ориентации А. М. Скабичевский.
И. А. Кущевский говорил, что успех поэмы держится не на тенденциозности, а на
могучей силе поэтического дарования. А. С. Суворин увидел в некрасовской
княгине Волконской «сильную женщину», которой «нужен был высокий идеал, и вот
она нашла его в этом мученике и борце». Причем ее грандиозный образ показан в
движении: читатель видит, как формируется ее характер, созревающий «под ударами
судьбы». А. М. Скабичевский отметил причину успеха поэмы Некрасова, увидев ее в
том, «что предмет его произведения оказался столь близким и дорогим душе
художника, что всецело овладел им, возбудил его творчество до высшего
напряжения и заставил его забыть все остальное, побочное».
[18] Когда
мы в портретной садились… – Портретная – комната в дворянских
домах, в которой висели портреты предков.
[19] С
могилы сестры – Муравьевой… – Александра Григорьевна Муравьева
(1804–1832), урожденная Чернышева, отправилась в Сибирь за мужем Н. М.
Муравьевым. Через нее Пушкин передал «Послание в Сибирь» и стихи, посвященные
И. И. Пущину («Мой первый друг, Мой друг бесценный!..»). Ее преждевременную
смерть в Сибири глубоко переживали декабристы и их жены.
[20] Коллекцию
бабочек, флору Читы… – До осени 1830 года декабристы находились в
Чите.
[21] …Я
им завещаю железный браслет… – Из собственных цепей декабристы
выковывали не только браслеты, но и железные нательные кресты как символ перенесенных
ими гонений и страданий.
[22] Наш
род был богатый и древний. Но пуще отец мой возвысил его… – В 1526
году родоначальник Раевских Иван Степанович Раевский выехал из Польши. В XVII
веке Раевские служили стольниками. Николай Николаевич Раевский (1771–1829) был
героем Отечественной войны, генералом от кавалерии. Записанный на военную
службу в младенчестве, в 20 лет он стал полковником лейб‑гвардии Семеновского
полка. Участвовал в военных действиях против турок и поляков, в 1786 году,
будучи командиром Нижегородского драгунского полка, брал Дербент. В 1807 году
командовал егерскою бригадою под началом князя Багратиона. В 1808 году с
Барклаем‑де‑Толли и Каменским одержал ряд побед над шведами. В 1811 году
отличился при осаде Силистрии. В 1812 году, командуя в армии Багратиона 26‑й
дивизией, в течение суток защищал город против превосходящих сил неприятеля. Во
время Бородинского сражения против его редута были устремлены почти все силы
французов. Блестящая защита редута, получившего его имя (у Толстого в «Войне и
мире» – батарея Раевского), принесла Раевскому прочную славу.
[23] См.
«Деяния российских полководцев и генералов, ознаменовавших себя в достопамятную
войну с Франциею, в 1812–1815 годах». С. – Петербург, 1822 года. Часть 3,
стр. 30–64. Биография генерала от кавалерии Николая Николаевича Раевского.
[24] См.
соч. Жуковского, изд. 1849 г., т. 1, «Певец во стане русских воинов», стр.
280:
Раевский, слава наших дней,
Хвала! перед рядами
Он первый – грудь против
мечей –
С отважными сынами…
Факт, о котором здесь упоминается, в «Деяниях…» рассказан
следующим образом, часть 3, стр. 52:
«В сражении при Дашкове, когда
храбрые Россияне от чрезвычайного превосходства в силах и ужасного действия
артиллерии неприятеля, несколько поколебались, генерал Раевский, зная, сколько
личный пример начальника одушевляет подчиненных ему воинов, взяв за руки
двух своих сыновей, не достигших еще двадцатилетнего возраста, бросился с ними
вперед на одну неприятельскую батарею, упорствовавшую еще покориться
мужеству героев, вскричал: „Вперед, ребята, за царя и отечество! я и
дети мои, коих приношу в жертву, откроем вам путь!..“ – и что могло после
сего противостоять усилиям и рвению предводимых таким начальником войск!
Батарея была тотчас взята».
Этот факт рассказан и у Михайловского‑Данилевского (т. 1,
стр. 329, изд. 1839 г.) с тою разницею, что, по рассказу Данилевского,
дело происходило не под Дашковой, а при Салтановке, и при этом
случае упомянут подвиг шестнадцатилетнего юнкера, ровесника с Раевским, несшего
впереди полка знамя, при переходе через греблю, под убийственным огнем, и когда
младший из Раевских (Николай Николаевич) просил у него знамя, под предлогом,
что тот устал: «Дайте мне нести знамя», юнкер, не отдавая оного, отвечал: «Я
сам умею умирать!» Подлинность всего этого подтверждает и генерал Липранди,
заметка которого (из дневника и воспоминаний И. П. Липранди) помещена в
«Архиве» г. Бартенева (1866 г., стр. 1214).
[25] Наша
поэма была уже написана, когда мы вспомнили, что генерал Раевский и по
возвращении из похода, окончившегося взятием Парижа, продолжал служить. Мы не
сочли нужным изменить нашего текста, так как это обстоятельство чисто внешнее;
притом Раевский, командовавший корпусом, расположенным близ Киева, под
старость, действительно, часто живал в деревне, где, по свидетельству Пушкина,
который хорошо знал Н. Н. Раевского и был другом с его сыновьями, занимался,
между прочим, домашнею медициной и садоводством. Приводим, кстати,
свидетельство Пушкина о Раевском в одном из писем к брату:
«Мой друг, счастливейшие минуты
в жизни моей провел я посреди семейства почтенного Раевского. Я в нем любил
человека с ясным умом, с простой, прекрасной душой; снисходительного, попечительного
друга, всегда милого, ласкового хозяина. Свидетель екатерининского века,
памятник 12‑го года, человек без предрассудков, с сильным характером и
чувствительный, он невольно привяжет к себе всякого, кто только достоин
понимать и ценить его высокие качества».
[26] Он
славно под Лейпцигом дрался… – Сергей Григорьевич Волконский
(1788–1865) во время войн 1807–1814 годов проявил себя храбрым и деятельным
офицером. Участвовал в 58 сражениях и в 28 лет был произведен в генералы свиты
его величества.
[27] В
вину ему ставилось тоже, что он… – С. Г. Волконский был признан
виновным в том, что «участвовал согласием в умысле на цареубийство и
истребление всей императорской фамилии, имел умысел на заточение императорской
фамилии; участвовал в управлении Южным обществом и старался о соединении его с
Северным; действовал в умысле на отторжение областей от империи и употреблял
поддельную печать Полевого Аудитора». Два последних обвинения были
необоснованными.
[28] Сестра
моя, Катя Орлова… – Екатерина Николаевна Орлова (1797–1885) –
старшая дочь генерала Раевского, бывшая женой декабриста М. Ф. Орлова.
[29] А
дальше изволил хвалою почтить Решимость мою… – Вопреки закону, разрешавшему
женам ссыльнокаторжных ехать вслед за мужьями, жены декабристов были вынуждены
каждая добиваться отдельного позволения, причем всем им категорически
запрещалось брать с собою детей. Николай I сразу после казни пяти декабристов
сказал: «Этих женщин я больше боюсь». Но потом он же заметил: «Они проявили
преданность, достойную уважения».
[30] Зинаида
Волконская, урожденная кн. Белосельская, была родственницей нашей героине по
мужу.
[31] К
сестре Зинаиде… – Княгиня Зинаида Александровна Волконская
(урожденная Белосельская‑Белозерская; 1792–1862) приходилась родственницей М.
Н. Волконской по мужу. Сперва она жила в Петербурге и занимала высокое
положение при дворе. После 1812 года оставила Россию и совершила путешествие по
Западной Европе. Возвратившись в Петербург, занялась изучением русской старины.
Встретив непонимание в светском обществе, оставила Петербург и с 1824 года жила
в Москве. Постоянными посетителями ее салона были Жуковский, Пушкин, Вяземский,
Баратынский, Веневитинов, Шевырев, И. В. Киреевский. 3. А. Волконская была
поэтессой, беллетристкой, композитором и певицей. Ей посвящали стихи не только
Пушкин и Веневитинов, но и Баратынский («Из царства виста и зимы…») и даже
философ И. В. Киреевский.
[32] Quatre Nouvelles. Par M‑me La Princesse Zénéide Wolkonsky, née P‑sse
Béloselsky. Moscou, dans l'imprimerie d'Auguste Semen, 1819.
(«Четыре повести княгини Зинаиды Волконской, урожденной княжны Белосельской. Москва.
В типографии Августа Семена», 1819.)
[33] Она
нам оставила книгу новелл… – Произведения 3. А. Волконской ее сын опубликовал
на французском и русском языках («Сочинения княгини Зинаиды Александровны
Волконской». Карлсруэ, 1865).
[34] См.
стихотворения Д. В. Веневитинова, изд. А. Пятковского. Спб., 1862 (Элегия, стр.
96):
«На цвет небес ты долго
нагляделась
И цвет небес в очах нам
принесла».
Пушкин также посвятил 3. В‹олконс›кой стихотворение (1827
год), начинающееся стихом:
«Царица муз и красоты» и пр.
[35] И
северной звали Кориной… – Корина – лирическая поэтесса
Древней Греции (около V в. до н. э.).
[36] Одна
ростопчинская шутка… – Федор Васильевич Ростопчин (1763–1826) –
известный государственный деятель, главнокомандующий Москвы в эпоху
Отечественной войны 1812 года, узнав о восстании декабристов, по свидетельству
П. А. Вяземского, сказал: «В эпоху Французской революции сапожники и тряпичники
хотели сделаться графами и князьями: у нас графы и князья хотели сделаться
тряпичниками и сапожниками».
[37] Потемкину
ровня по летам… – Григорий Александрович Потемкин (1739–1791) –
генерал‑фельдмаршал, известный временщик при Екатерине II.
[38] Все
вечером съехались к Зине моей… – Этот вечер состоялся у 3. А.
Волконской в большом доме на Тверской 26 декабря 1826 года.
[39] Тут
были Одоевский, Вяземский… – Владимир Федорович Одоевский
(1803–1869) – известный писатель‑романтик и музыкальный критик; Петр
Андреевич Вяземский (1792–1878) – известный русский поэт и литературный
критик.
[40] Поэт,
вдохновенный и милый… – Имеется в виду Д. В. Веневитинов (1805–1827).
[41] Юрзуф,
очаровательный уголок южного берега Крыма, лежит на восточной оконечности южного
берега, на пути между Яйлою и Ялтою. Заметим здесь, что во всем нашем рассказе
о пребывании Пушкина у Раевских в Юрзуфе не вымышлено нами ни одного слова.
Анекдот о шалости Пушкина по поводу переводов Елены Николаевны Раевской
рассказан в статье г. Бартенева «Пушкин в Южной России» («Русский архив» 1866
года, стр. 1115). О друге своем кипарисе упоминает сам Пушкин в известном
письме к Дельвигу: «В двух шагах от дома рос кипарис; каждое утро я посещал его
и привязался к нему чувством, похожим на дружество». Легенда, связавшаяся
впоследствии с этим другом Пушкина, рассказана в «Крымских письмах» Евгении Тур
(«С.‑Петербургские ведомости» 1854 года, письмо 5‑е) и повторена в упомянутой
выше статье г. Бартенева.
[42]
Я помню море пред грозою,
Как я завидовал волнам,
Летевшим дружной чередою
С любовью пасть к ее ногам,
и проч.
(«Онегин» Пушкина)
[43] Но
мир Долгорукой еще не забыл, А Бирона нет и в помине… – Наталья
Борисовна Долгорукая (1714–1771), дочь фельдмаршала Б. П. Шереметева, в 1730
году отправилась за мужем, И. А. Долгоруким, в ссылку, в Сибирь. В 1739 году
Долгорукий, обвиненный в дворцовом заговоре, был казнен. После его смерти Н. Б.
Долгорукая воспитывала малолетних детей, а в 1758 году постриглась в монахини.
Оставила «Записки», изданные впервые в 1867 году. Эрнст Иоганн Бирон (1690–1772) –
фаворит императрицы Анны Иоанновны, с 1730 года стал неограниченным правителем.
Трагическая судьба семьи Долгоруких – результат его подозрительности и
жестокости. Русский поэт И. Козлов посвятил жизни и личности Н. Б. Долгорукой
поэму одноименного названия, которую знал Некрасов и мотивы которой частично
использовал в «Русских женщинах».
|


