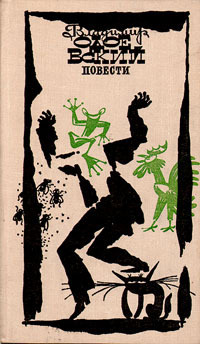
 Увеличить Увеличить |
I ЮЖНЫЙ БЕРЕГ ФИНЛЯНДИИ
В НАЧАЛЕ XVIII СТОЛЕТИЯ[1]
Посв.
графине Эмилии К-е Мусиной-Пушкиной
«Гина,
прибрось еще дров в печку. Даром что лето, а тепла еще нет, или уж я от
старости тепла не чую». Гина встала, бросила в очаг несколько сосновых
поленьев; сильно запылала смолистая кора и обдала всю хижину живым, веселым
светом; старушка вздохнула.
–
Вот, – сказала она, – когда был у нас Павали, не носила я дров;
а теперь уж и дрова на исходе, кто-то их нам перетащит в избу?
И старушка
пригорюнилась.
–
Ничего, еще придет, натаскает дров и лучины наколет к рождеству, –
произнес старик нетвердым голосом, как бы сам не доверяя словам своим.
И она
замолкла. Между тем из-за кучи хвороста вышел мальчик лет 12-ти, приемыш
бедного финна, и весело тащил за собою маленькую Эльсу, внучку стариков. Но
Эльса не хотела идти к печке и вырывалась у него из рук; Якко дразнил ее и
громко смеялся, но увидя печальный вид старика, примолкнул и спокойно уселся на
полу против огня.
Избушка,
в которой происходила эта небольшая сцена, была построена на самом берегу Вуоксы.
Теперь берега Вуоксы выглажены, разряжены, по скалам тянется ровная дорожка с
перилами; беседки в безвкусном английском роде, хорошо выбеленные, ожидают
праздных путешественников; но и теперь, как прежде, ужас находит на человека,
когда он осмеливается заглянуть в страшную клокочущую бездну. Река Вуокса тиха
и спокойна в своем течении; но беспрестанно скалы то ложатся поперек ее, то
сжимают ее узкими берегами, и река кипит, бурлит, рвется к родному морю, ползет
на утесы, бросает в воздух глыбами белой пены, подмывает огромные сосны; сосны
падают в пучину, чрез минуту за версту от порога Вуокса прибивает к берегу
дребезги огромного дерева – и снова течет тихо и спокойно. Она похожа на доброго
человека, которого судьба раздражает на каждом шагу жизни: гневно и сильно
борется он с судьбою, но после борьбы все затихает в душе его, и снова светится
в ней ясное солнце.
За 130
лет на Иматре не было ни дорожек, ни беседок; праздные петербургские пришельцы
не обращали себе в забаву грозной силы природы; она была во всем своем
девственном величии; но и тогда, как теперь, между порогов скользила ладья
рыболова; отважный, он вверялся родной реке и спокойно закидывал сети между
клокочущими безднами. На берегу к двум утесам была прислонена финская избушка;
между каменьями, подернутыми желтым мохом, пробирались корни деревьев, а ветви
их сплетались над кровлею, усаженною зеленым дерном; избушка была темна;
четвероугольная печь с вечно пылающими дровами, несколько обрубков сосен, куча
хвороста, служившая постелью, на стене кантела, народный финский инструмент,
похожий на лежачую арфу с волосяными струнами, – вот все, чем украшалось
бедное жилище рыболова.
Ветер
свистал в волоковое окно, некрепко припертое, иногда пробегал по струнам
кантелы, и струны печально, нестройно звучали; когда утихал ветер, тогда
слышался гул порогов; тряслись стены старой избушки, дверь, скрипя,
поворачивалась на вереях; искры сыпались из печи, дым облаком выносило из
устья; по временам сильный порывистый дождь прорывался сквозь кровлю и брызгами
обдавал жителей, но они, казалось, привыкли ко всему этому и не обращали ни на
что внимания.
Так
протекло довольно долгое время в совершенном молчании; лишь изредка Якко поворачивал
глаза к старику, как будто хотел о чем-то спросить его, но боялся, или
беззаботно бросал свежие ветки сосны в огонь и с детским любопытством смотрел,
как мало-помалу в золотистых искрах истлевали зеленые смолистые иглы. Наконец
Гина встала, достала с шеста несколько кружков древесной коры, подбеленных
мукою, сняла с печки деревянную чашу с кислым молоком, и вся семья принялась за
скудный ужин. Одна Эльса, получив свою долю, ушла снова за хворост.
В эту
минуту Якко, поглядев пристально на старика, сказал: "Давно я хотел
спросить тебя, дедушка, куда ушел наш Павали?"
–
Куда, – отвечал старик, – разве ты не видел, как его солдаты увели?
– Да
куда ж они его увели?
– Куда?
на войну с вейнелейсами[2].
– А что
такое война, дедушка?
– А вот
видишь, Якко, с одной стороны приходят рутцы[3],
а с другой вейнелейсы, и спорят о том, кому достанется наша земля.
– Да
нам-то что до этого за дело? – заметила Гина. – Пусть бы дрались
между собою, а нас бы не обижали; ну, зачем они увели нашего Павали? На что он
им?
– Да
вишь, им нужны проводники дорогу показывать.
– Дорогу
показывать? – сказала Гина. – Да что нам до этого? Как нам жить без
Павали? И дров наносить некому, и коры некому намолоть.
– А вот
придет, – повторил старик неверным голосом. Якко обратил снова к старику
свои быстрые, вопрошающие глаза.
–
Помнишь, дедушка, об рождестве, ты, подыгрывая на кантеле, распевал нам об
нашей земле и о том, как о ней спорят калевы с пахиолами; это они-то и есть,
что теперь спорят? Я тогда не понял всего; расскажи-ка еще, дедушка.
– Нет!
То было в старину, а то теперь, – отвечал старик вздохнувши.
– Да на
что им наша земля? – сказала Гина. – Разве нет у них своей?
Старик
не отвечал, печально наклонил голову, седые локоны нависли на его бледные морщины,
он сложил руки на коленях и, качая головою, стал говорить, как будто самому
себе:
ФИНСКАЯ
ЛЕГЕНДА
Нет на
свете земли Краше нашей Суомии; у нас и море широкое, и озера глубокие, и
сосны вечнозеленые; и в других землях также есть солнце, да оно покажется,
посветит и спрячется, как у нас зимой. А наше солнце полгода отдыхает, зато
полгода светит, и на полях наших едва уляжется роса вечерняя, как поднимается
роса утренняя. Но в старину было еще лучше: было у нас чудное сокровище Сампо[4], пестрое, из
разноцветных каменьев, и с такою крышей, что теперь всем ковачам не сковать.
Тогда-то был рай земной в Суомии; ничего люди не делали, все делало Сампо: и
дрова носило, и дома строило, и кору на хлеб мололо, и молоко доило, и струны
на кантелу навязывало, и песни пело, а люди только лежали перед огнем, да с
боку на бок поворачивались; всего было в изобилии; но когда Вейнемейнен
рассердился на нас, Сампо ушло в землю и заплыло камнем, а на земле осталась
только кантела. Тогда люди были не такие, как теперь, а великорослые, сильные.
Они хотели разбить камень, трудились долго, но не дошли до Сампо, а только
навалили груды каменьев на нашу землю. С тех пор проведали и другие люди, что в
нашей земле есть такое сокровище; сперва рутцы, а потом и вейнелейсы; вот они и
спорят с тех пор, кому достанется Сампо. У народа рутцы есть король, а у
вейнелейсов царь. Оба они великие тиетаи[5].
Они ведают, как добыть сокровище из земли, но один другому уступить его не
хочет. Давно уж они готовились завладеть им. Уж чего не знает наш тиетай
Кукари? Он видит все, из чего что произошло, откуда и железо, и бурелом, и все
силы земные, но перед царем и королем меркнет и его ум чудодейный. Царь, видно,
сильнее короля, ибо знает, как он родился. Едва вышел король из материнского чрева,
как топнул ногою об землю и сказал: что Юмала дал, того у меня Пергола не
отнимет. И пошел он по земле с железным мечом; куда ни придет, махнет мечом,
все люди вокруг него умирают; и такова его мудрость, что никто еще не
видал, чтоб он ел или пил, а спит он одним только глазом, другим же все смотрит
и в небо, и в землю, и все видит, что и как от чего происходит; одного только
не видал он, как произошел царь вейнелейсов. Говорят, что вышел он прямо из
моря. Была сильная буря, волны землю подмывали, корабли тонули, скалы с берегов
падали в море. Король сидел на берегу, помахивал железным мечом и приказывал
скалам подыматься из моря, но скалы не слушались; король рассердился, море пуще
взбушевало; как вдруг расступилось, и из воды вышел царь вейнелейсов; одною
рукою он приподнял скалы, а другою повел вокруг себя и сказал: все мое, что ни
вижу. Король и пуще рассердился и бросил в царя железом; царь отвечал ему тем
же. Тогда король бросил в него серою и селитрою. У царя же не было ни серы, ни
селитры. Бой стал неровный. Царь собрал своих вейнелейсов и стал с ними ходить
по белому свету; перешел он и за полудесятое море, там где небо к земле
прислонилось. Придет в одно место, ударит железом по земле, скажет: копайте, и
из земли выйдет железо. В другом месте ударит, выйдут из земли сера и селитра;
в третьем – разные сокровища. Но все он не дорылся до Сампо, потому что
Сампо только в нашей Суомии. Что ни собрал царь, все принес в свою землю. Но он
так долго ходил по белому свету, что на его земле все люди постарели, у всех
отросли длинные бороды. Царь рассердился. «Хочу, – сказал он
вейнелейсам, – чтоб все помолодели, потому что нужны мне люди молодые и
сильные». И такова была его мудрость, что от одного его слова все вейнелейсы
помолодели: сделались они здоровы и сильны, и бороды у них отпали. Тогда царь
велел вейнелейсам ковать оружие против врага своего, короля рутцов. Три дня
усердно помогают царю рабы, на плечах у них пыль в сажень толщиной, на голове
сажа в аршин, на всем теле густой слой копоти. Но про то узнала сестра царева.
Приходит, смотрит и молвит: «много ты, братец, навел ковачей из-за полудесятого
моря; вели мне сковать царское ожерелье, чтоб все почитали меня царицей; да
вели мне выковать месяц из серебра и солнце из золота, чтоб они ходили вокруг
меня и днем и ночью светили. Не выкуешь, братец, злые слова пошлю на тебя».
Рассердился царь, услышав такие речи. «Нет царя, – сказал он, – кроме
меня; есть у меня царское ожерелье, да не для тебя; есть месяц и солнце, да не
тебе они светят». Царская сестра пригорюнилась и с досады стала гребнем чесать
свои черные волосы; волосы падали на землю, и от каждого выросло ядовитое
зелье. Потом разломала она свой гребень на части, и из каждого зубца вышел
великан с луком и стрелами. Узнал об этом и король рутцов, и Турка, вечный враг
всех христиан. И сошлись они вместе и напали на мудрого ковача. Увидевши это,
ковач ударил молотом по наковальне, и от одного стука рассыпались в прах
великаны; он ударил в другой раз – от наковальни отскочили куски железа и
засыпали Турку; ковач ударил в третий раз – от наковальни брызнули искры, зажгли
серу и селитру и опалили короля рутцов. Король бросился в море, чтоб затушить
огонь; царь за ним, – приходит к морю, а король уже за морем; царь гнаться
– смотрит, нет корабля, вокруг него только песок морской, да голые камни, да
топь, да болота. Царь собрал своих вейнелейсов и говорит им: «Постройте мне
город, где бы мне жить было можно, пока я корабль построю». – И стали
строить город, но что положат камень, то всосет болото; много уже камней
навалили, скалу на скалу, бревно на бревно, но болото все в себя принимает и
наверху земли одна топь остается. Между тем царь состроил корабль, оглянулся:
смотрит, нет еще его города. «Ничего вы не умеете делать», – сказал он
своим людям и с сим словом начал поднимать скалу за скалою и ковать на воздухе.
Так выстроил он целый город и опустил его на землю. Между тем король, на другом
берегу, ходит и думает: что такое царь затевает. Встречает его месяц. Король
кланяется месяцу: «Ах, месяц Божий, не видал ли ты, что делает царь
вейнелейсов?» Но месяц ему не отвечает. Короля встречает солнце; он кланяется
солнцу: «Ах, солнце Божие, не видало ли ты, что делает царь вейнелейсов?» Но и
солнце ему не отвечает. Король встречает море, он кланяется морю: «Ах, море
Божие, не видало ли ты, что делает царь вейнелейсов». Море, наконец, ему
отвечало: «Знаю, что он делает, он землю сушит, волны гонит в мое сердце; тесно
мне становится в моих берегах, как тебе, королю, в твоем королевстве». –
Нападем же на него, – сказал король, – авось либо просторнее будет
нам на белом свете. – И согласились они, и пошли на царя войною. Король
приготовил серу и раскаленные уголья, а море взбушевало, вылилось из берегов и
всползло на кровли нового города. Царь отдыхал тогда после дневной работы,
проснулся, видит: хочет море залить его! Сильно ударил он жезлом по морю, и
море смутилось, быстро потекло в берега и только в страхе обмывало царские
ноги. «Неси мои корабли!» – вскричал царь грозным голосом, и море приняло
их на свои влажные плечи. «Застынь», – сказал царь, и море подернулось
льдом серебристым. «Дуй, буря, в мои паруса», – сказал царь, и корабли
покатились по скользкому льду. Король между тем, видя, что море застыло,
смотрит и радуется. «Победило море, – говорит, – и затянуло
вейнелейсов под своей льдиной». Еще смотрит он, чернеет что-то по белому снегу,
ближе… ближе… горе!.. то летят корабли вейнелейсов; тщетно заклинает их король,
тщетно обсыпает красным угольем, с кораблей дышит бурный ветер, свивает в
облако горючую серу и палит короля и всю землю рутцийскую. Испугался король и
побежал к Турку просить подмоги. Но такова его мудрость, что он и у Турка за
морями, и у нас на берегу в одно время. Чем-то кончится эта кровавая битва?
Кому достанется земля наша? Кому достанется наше сокровище Сампо?"
Старик
умолк, старуха давно уж дремала, Эльса изредка выглядывала из-за хвороста и
опять пряталась. Лишь Якко, устремив блистающие глаза на старика, казалось,
боялся проронить слово.
Старик
не обращал внимания на своих слушателей; его речь овладела им совершенно; слова
невольно лились одно за другим; он сам с любопытством слушал рассказ свой и
боялся прервать его.
– Кукари
говорил мне, – продолжал он после некоторого молчания, – что с
некоторого времени ему чудятся странные сны: видит он, как поднимаются с
суомииских берегов огромные скалы, переплывают под ноги царя вейнелейсов, и все
он поднимается выше и выше, и на громаду скал взбегают суомийцы, и царь
вейнелейсов прикрывает их своей огромною рукою. То чудится ему, что на береге
моря скалы разрываются с треском, а из них выходит огромный блестящий город;
там собираются тиетаи со всех сторон света и громким голосом ведут мудрые речи
со всеми людьми суомийскими. И над городом опять царь вейнелейсов в золотом
венце; его носят облака небесные, с венца его на Суомию падают златистые искры
и светят, как тысяча солнц. Чудно! Чудно!!
Старик
призадумался. Все затихло в бедной избушке, лишь ветер свистел в волоковое окошко
и печально пробегал по струнам кантелы; шумели пороги, дождь прорывался сквозь
кровлю; длинные тени от очага то являлись, то исчезали по закопченным бревнам
избушки.
Вдруг
Гина вздрогнула: "Что это? Гром?" – вскричала она.
В самом
деле, средь гула порогов послышались громовые раскаты; еще, еще – наконец удар
следовал за ударом.
– Нет,
Гина, – сказал старик, прислушавшись, – это не гром, это пушки. Гина,
война и до нас дошла.
– Где-то
теперь наш Павали? Как стоит он под пушкой, ведь убьет его.
Старик
молчал и не мог скрыть своего беспокойства.
– Вот
еще, еще… слышишь, муж… ах, скажи мне, где наш Павали?
Старик
молчал; седые его волосы рассыпались по бледным морщинам, глаза не двигались;
что-то мрачное в них отражалось.
Гина
зарыдала.
–
Слушай, Руси, – сказала она, – я ведь знаю, ты сам тиетай, ты с живой
руки можешь видеть сам все, что хочешь…
Старик
сердито посмотрел на Гину.
– Не
сердись на меня, я твоя верная, покорная жена; я сорок лет знала твою
тайну и никогда даже тебе не говорила об этом… Но теперь – чего тебе стоит?
Узнай, узнай, где наш Павали… ты сам будешь спокойнее…
Старик
встал и стал ходить по избушке, качая головой с видом нерешимости. Между тем
пушечные выстрелы становились чаще и чаще и, казалось, приближались. Гина
вскрикивала при каждом ударе и дрожала всем телом.
После
некоторого времени старик откинул свои седые локоны и сказал: "Быть так!
Полно плакать, может, узнаем, где наш Павали. Ну, да полно же плакать, говорят
тебе!"
Старуха
в минуту затихла и только смотрела на вещуна умоляющими глазами.
Старик
продолжал: "Только смотри же, Гина, ступай на печь и не смей
оборачиваться, а не то и тебе, и мне худо будет. Якко, ступай в хворост,
зажмурь глаза и лежи смирно, пока я не позову тебя".
Все
немедленно было исполнено по приказанию старика. Тогда он призадумался, повел
по лицу рукою и сказал мрачным голосом: "Эльса, поди сюда".
Эльса
упрямилась и не хотела идти из-под хвороста. Старик повторил свое приказание, и
Эльса выползла из-под хвороста, приблизилась к старику, но жалась к стене и
трепетала.
Почти
силою старик подвел ее к огню и посадил на обрубок. Едва лицо бедного дитяти
стало краснеть от действия жара, как она еще более задрожала, все ее тело
пришло в судорожное движение. Старик взял ее за голову и придерживал крепко,
чтоб лицо бедной малютки не отворачивалось от очага.
Через
несколько времени он сказал ей тихим, но сердитым голосом: "Смотри, где
твой отец". Судорожное движение дитяти увеличилось; бедная Эльса билась,
чтоб вырваться из рук старика, но тщетно; его железные руки приковывали ее к
обрубку.
– Смотри
же, где твой отец? – повторил старик еще более гневным голосом.
Эльса
затрепетала сильнее, но пристально устремила глаза свои в очаг.
–
Вижу, – наконец сказала она прерывающимся голосом, – вижу отца… он
сидит на камне… возле него дерево… нет, не дерево… возле него человек… солдат…
он что-то говорит отцу… но я не могу расслушать…
–
Слушай, – сказал грозно старик.
– Солдат
говорит отцу, чтоб он отдал ему свое платье… отец не дает… они горячо спорят…
ах, он замахивается на отца… отец ударил солдата… ах, солдат стреляет… отец
падает… ах, отец умер…
Старик
отскочил от нее при этих словах. Гина вскрикнула на печке… Эльса зарыдала, старик
наклонил голову в ужасе и шепотом проговорил: "Вот мое наказание…"
Якко дрожал под хворостом…
Чрез
несколько времени послышался лошадиный топот… жители избушки вздрогнули…
онемение прошло… вот как будто что-то ударилось о землю: скоро дверь со стуком
отворилась, и вбежал человек в финском платье, с мушкетоном в руке, облитый
дождем, забрызганный кровью и грязью.
– Лодку!
Лодку! – вскричал он на шведском языке, – скорее лодку.
Старик
посмотрел на него и очень холодно произнес: an mujsta[6].
–
Слышишь ли, что я говорю, – вскричал швед с гневом, – проклятая
лошадь у меня пала… лодку!.. Сию минуту вези меня на другой берег.
Старик,
хладнокровно поворотя голову, по-прежнему хотел выговорить свое: an mujsta, но
Гина вдруг бросилась на пришельца: "Это платье Павали, ты снял его с
Павали? Ты убил Павали? Где он, где он?"
Швед не
понимал слов Гины и с гневом оторвался от нее: "Что за толки! Говорят вам:
лодку, мне нельзя терять времени; я с важным донесением… Выборг взят
русскими… слышите, понимаете… лодку… лодку, или убью".
Старик
посмотрел на шведа с мрачным видом и, не двигаясь с места, опять проговорил: an
mujsta.
Тогда
швед потерял терпение: "Коли не понимаешь, – вскричал он, – так
я тебе иначе покажу, чего мне надо…"
С сим
словом он схватил старика за длинные волосы и потащил из избы. Гина впилась в
шведа: "Ты убил моего сына, ты хочешь убить и мужа!" – кричала
она, заслоняя двери и силясь помочь своему мужу. Раздраженный швед толкнул Гину
так сильно, что она головою ударилась об окраину двери – Гина и не вскрикнула…
Старик хотел схватиться за нее, но швед не дал ему времени и сильною рукою
повлек его на берег…
На дворе
прояснилось; ветер разрывал облака, и они как дым неслись по белому небу;
дерева пригибало к земле, пена порогов, усиленная бурею, с ужасным ревом
разбивалась о гранитные камни; первые лучи зари отражались на серых волнах
кровавыми пятнами…
– Где
переправа? – кричал швед, тряся старика из всей силы…
Кажется,
на этот раз старик понял, он не отвечал ничего, но пошел прямо к лодке, привязанной
между соснами, растущими по верховью над главным порогом.
– А!
Понял наконец, – сказал швед с радостью, – вези скорее.
Старый
финн отвязал лодку и хотел было уступить место шведу, но швед проник его намерение.
–
Нет! – сказал он, – ведь вы народ хитрый, – пустишь меня, да сам
уйдешь; ступай-ка вперед!
С сими
словами он втолкнул старика в лодку, – старик повиновался. Привычными
руками взялся он за весло, – видно было, что ему не впервые проводить свою
лодку между опасными порогами… Изредка он посматривал на шведа, но в лице финна
не было видно никакого чувства… На средине реки – швед вздрогнул. "Правее!
Правее, – вскричал он, – нас несет к порогу".
– An
mujsta, – отвечал финн, злобно улыбаясь… "Правее! говорю тебе, –
или…"
С сими
словами швед взялся за мушкетон – но было уже поздно: лодку быстро втянуло в белую
пену, – едва раздался из волн сильный хохот старика, крик шведа… Мелькнуло
что-то черное посреди клубов пены – и все исчезло навеки: и финн, и швед, и
лодка.
Никто не
был свидетелем этой сцены, кроме Якко, который в испуге бежал за стариком и при
страшном зрелище окаменел на берегу.
В эту
минуту несколько всадников в зеленых мундирах скакали на берегу… Вдруг конь передового
поднялся на дыбы.
–
Смотрите! – вскричал всадник по-русски, – здесь пала шведская лошадь,
он должен быть здесь недалеко!
С сими
словами начальник русского отряда быстро соскочил с лошади, за ним последовали
другие, и все вместе вбежали в избушку; на пороге лежала убитая Гина; огонь на
очаге потух; они не заметили Эльсы, которая еще не могла прийти в себя под
кучей хвороста.
– Видно,
что здесь был швед нерубленый, – сказал начальник отряда, – куда же
он девался? Верно переплыл через реку; беда, если его не захватим.
Быстро
выбежали русские на берег и встретили бедного Якко.
– Где
гонец шведский? – спрашивали русские. Якко в самом деле не понимал их, но
догадываясь, показывал рукою вниз по течению Вуоксы.
– Он
должен быть недалеко, – сказал начальник, – на коней, живей!
С сими
словами начальник вскочил на коня, посадил поперек седла бедного Якко, и весь отряд
поскакал по берегу. Так проскакали они добрую версту; там, где кипение порога
прекращается, Якко замахал рукою, русские соскочили с коней к берегу и увидели,
как волна прибивала дребезги лодки, обезображенные трупы старого рыболова и
шведа в финской одежде.
– Не
переплыл, голубчик, – вскричал начальник, – туда ему и дорога. Теперь
марш назад, а не то шведы захватят. Ты, малый, будешь нам служить провожатым –
и отряд помчался во всю лошадиную прыть.
Так
неслись они около десятка верст; Якко не помнил самого себя: быстрое движение
коня отбило у него и последнюю память.
Вдруг в
лесу послышались ружейные выстрелы; русский начальник остановил свой отряд и
стал прислушиваться.
Из лесу
показалась толпа шведов. Увидев русских, они хладнокровно построились в боевой
порядок и дали по отряду залп из ружей; но кажется, не разочли расстояния:
только немногие из русских лошадей были ранены; между ними была, однако же, и
лошадь начальника отряда; он спустил Якко на землю и, вскрикнув: "Ребята,
за мною!" с палашом в руке бросился на шведов. Шведы не успели дать
второго залпа; русский отряд расстроил ряды их, смял их лошадьми и рубил
палашами. Шведы оборонялись храбро штыками; большая часть лошадей русских были
ранены; почти весь отряд спешился, быстро стал в боевой порядок и, как новое
свежее войско, пошел на израненных, смутившихся шведов; бой стал вполне
рукопашный; штыки изломались; шведы бились прикладами, русские палашами.
Преследуемый двумя шведскими фузильерами, начальник русского отряда,
прислонившись к утесу, отважно отбивался от них надломленным палашом. Товарищи
его были далеко, гибель казалась неизбежна. Уже русский творил молитву на
смертный час, как вдруг один из его противников, пораженный сзади, упал на
землю, за ним последовал и другой: тогда только русский начальник увидел пред
собою маленького Якко с изломанным прикладом в руках. С сверкающими глазами,
распаленный мщением, маленький финн ходил между рядами и когда замечал схватку,
то поражал прикладом того, кто был в шведском мундире; он не спускал никому, ни
раненым, ни убитым, и злобно ударял по головам где ни попало.
– Вот
молодец, – кричали русские, – славно, славно, только лежачих не бей.
Через
несколько времени разбитые шведы рассеялись снова по лесу. Начальник русского отряда,
расставив несколько всадников для наблюдения, поспешил к главному русскому
корпусу невдалеке от Выборга.
– Ты не
расстанешься с нами, молодец, – сказал он молодому финну.
Якко не
понимал ничего, глаза его горели, одно в нем было чувство: злоба на шведов;
остальное все было забыто: он не знал, что с ним делается, и всему
бессознательно покорялся. Чрез несколько верст поручик Зверев, начальник
отряда, примкнул к главному русскому корпусу; уже он сбирался ехать с
донесением, когда среди лагеря все пришло в движение. "Царь едет! Царь
едет!" – говорили между собою солдаты.
Якко
ничего не понимал, что вокруг него делается; он видел только, что множество
людей столпилось вокруг высокого черноволосого человека, пред которым все
снимали шляпы; скоро и Якко привели в ту же толпу. Поручик Зверев взял Якко за
руку, а высокий черноволосый человек, пред которым все снимали шляпы, потрепал
его по щеке и проговорил что-то окружающим на языке, для финна непонятном.
Якко еще
смотрел на черноволосого человека, не мог отвести глаз от него, хотел ему
что-то вымолвить и не мог…
Через
несколько минут Якко посадили в телегу, и он помчался сам не зная куда…
Так
продолжалось дня три: во время дороги провожатый Якко, израненный солдат,
ласкал, холил и кормил бедного финна.
Невиданные
предметы, незнакомые люди, незнакомая пища, все это поражало молодого финна и
приводило его в состояние, близкое к очарованию. Наконец, миновали финские
горы, пошла ровная дорога между болотами. Скоро Якко увидел дома, показавшиеся
ему удивительно огромными; проехав далее, он увидел дома еще огромнее прежних,
широкую реку и за рекой другой город какого-то странного вида: на стенах блещут
медные пушки и ходят часовые с ружьями; огромные лодки, каких Якко еще никогда
не видывал, несутся по широкой реке; наконец телега остановилась у каменного
дома, проводник вышел из телеги, вытащил Якко, обессилевшего от тряской дороги,
и повел его за собою, где изразцовая печь с изображением людей и разных животных
вывела из бесчувствия бедного финна. Чрез минуту в комнату вошел человек
пожилых лет; он долго говорил что-то с проводником и гладил по голове Якко.
Якко, ободренный этими ласками, стал бодро ходить по комнате; всякий предмет
останавливал его внимание; он ощупывал мебели, обшитые зеленою кожею,
дотрагивался до стекол, которых назначения никак не мог постигнуть. Особенно
поразило его небольшое зеркало в простенке. Якко сначала обрадовался, увидев
финна, но потом испугался, отбежал и спрятался в угол.
Между
тем в комнату вошла женщина и за ней восьмилетняя девочка; они напомнили финну
его прошедшую жизнь, напомнили ему Гину, Эльсу. В продолжение последних четырех
дней Якко, пораженный всем случившимся, забыл все былое, но теперь он всплеснул
руками, заплакал и стал кричать: "Эльса, Эльса!" Но никто не понимал
бедного финна; его ласкали, старались утешить, но он все плакал и не ел целый
день. На другое утро Якко сидел уже на корабле, вместе с другими молодыми
людьми разных возрастов, и тщетно старался растолковать себе, где он и куда его
везут.
Благосклонный
читатель уже верно догадался, что Якко был привезен в Петербург, в новую
столицу преобразователя России, только что возникшую из болот финских. В то
время просветитель России дал повеление отправить в Голландию несколько молодых
людей; они поручались попечению князя Куракина. Неохотно русские люди
отправлялись за море обучаться басурманским наукам. Финский сирота, обративший
на себя внимание Петра, был находкою в таком случае; корабль уже был снаряжен,
бедным финном заменили какого-то нижегородского недоросля, о котором горько плакалась
мать.
На
корабле Якко встретил старых знакомых, и именно пожилого человека, который так
ласкал молодого финна; этот пожилой человек был отец поручика Зверева,
секретарь и домашний человек князя Куракина; он отправлялся со всем своим
семейством к князю в Голландию.
Мы не
будем описывать, как полудикий финн мало-помалу обратился в образованного европейца,
как он выучился иностранным языкам, как сделался отличным физиком, механиком.
Протекли
одиннадцать лет, и Якко, называвшийся теперь Иваном Ивановичем Якко, жил в
Голландии у старика Зверева, который любил его, как родного. Сенные девушки
толковали даже, что Иван Иванович приволакивался за меньшею дочерью Зверева,
Марьею Егоровною, но старик часто твердил, что Ивану Ивановичу надобно прежде
всего у царя выслужиться. Наконец, настало время разлуки; Иван Иванович должен
был ехать в Петербург; с тем вместе отправлялся лестный отзыв князя
Куракина к монарху о нашем Якко.
Приемыш
бедного рыболова едва узнал юную столицу, – так возмужала она в короткое
время; берега островов застроились, лес мачт покрывал лазурную поверхность
Невы: и страшно, и весело было на душе финна. И теперь, как прежде, он знал о
России еще по слуху; но ее величие тем сильнее поражало его. Он вспомнил свою
родимую избушку, вспомнил баснословные рассказы о русском царстве и с трудом
еще верил, что он посреди этого баснословного мира. Он вспомнил, как в первый
раз увидел монарха; действительность мешалась в душе финна с очарованием:
великий вождь России представлялся ему то в виде исполина, то в виде чудного
волхва, покоряющего стихии; это верование в Якко получило полную силу, когда
образованный ум его находил на каждом шагу убеждение, что чудные подвиги Петра
не вымысел, но действительность. Тогда разгоралась в душе Якко восторженная
любовь к преобразователю России и уверенность, что и он не недостоин быть
орудием монарха. Молодой финн знал, как дорожит он образованными людьми,
которые в состоянии понимать его великие предположения, и гордою надеждой
расширялось сердце молодого финна. Действительно, чудные тогда были минуты в
русском царстве: Нейштадский трактат был заключен; Россия праздновала свою силу
и подносила царю звание императора и Великого. Отечество было безопасно от
врагов; еще не умолкал гул войны, но то был гул отдаленный, не близ юной
столицы, но далеко на востоке. По сношениям князя Куракина наш молодой финн
знал, что внутреннее улучшение обращало теперь на себя все внимание монарха.
Россия походила на огромную машину, которой необъятная сила не знала границ; не
доставало лишь маятника, который бы этой силе дал равномерное движение.
Распорядок дел земских, средства сообщения, воспитание народа, все возникало в
голове Петра и с высоты престола, как могучее семя, падало на плодоносную
русскую землю. С восторгом говорил себе финн, что для этих дел Петру нужны были
люди; знал он и то, что монарх смотрел на возрастающее поколение, как на лучшую
свою надежду, что часто с ранних лет он следил за молодым человеком,
внимательно наблюдал за развитием его способностей, и вдруг, мгновенно посвящал
его в высшие таинства трудов своих; тогда почитатели старины ворчали и
удивлялись ошибке царя; но еще более дивились они, когда юноша оправдывал
блистательные надежды, когда способности избранника соответствовали именно тому
делу, на которое он был предназначен; старики приписывали такое счастие случаю
или находили в царе искусство угадывать, не зная того, что великий царь издавна
трудолюбиво следил своим орлиным оком за человеком, им избранным. Наш финн
заметил также, что как все великие люди, богатые мыслями, опережающими время,
Петр любил, чтоб его угадывали, что он ненавидел простое буквальное исполнение,
что он искал в своих помощниках той любви к делу, которая превозмогает все
препятствия, переходит за границы исполнения, изобретает новые средства для
новых целей и предупреждает великие намерения Великого. Часто из писем монарха
к князю Куракину Якко видел, что царь берег таких людей, как зеницу ока; он
видел также, как часто Великий жаловался, что ему не за кого взяться.
В самом
деле, царь издавна, по отзывам князя Куракина, знал подробно способности и любимые
занятия молодого финна.
Однако
воображение Якко не переходило выше унтер-лейтенанта или
гиттенфервалтера, – но другое нежданное для него дело приготовлялось. В
аудиенции пред государем он проговорился о Венеции и о тамошних типографиях;
несколько слов Якко показали; что ему известно это дело; а об этом деле
уже с давнего времени заботился Петр Великий; теперь же вся его деятельность обращена
была на это мощное орудие просвещения; типографское искусство еще мало было
известно в России; немногие люди в России тогда могли быть к нему способны. Наш
Якко был находкою для Петра в этом случае, и он дал ему в одно время несколько
важных поручений: он велел ему заняться переводом некоторых иностранных книг,
между тем заготовить план для образования новой типографии и в особенности
обучить мастеров для типографского дела. Удивление и восхищение Якко были
невыразимы; он невольно упал на колени пред великим царем и от полноты чувств
не мог проговорить ни единого слова. Так полудикий финн, под могучей рукою
Петра, должен был сделаться одним из орудий русского просвещения.
В конце
1722 года почтовая кибитка остановилась невдалеке от Вуоксы; молодой человек в
богатом немецком кафтане выскочил из повозки, бросился на землю и целовал ее с
жаром юноши. С трудом он выговаривал несколько финских слов, которые едва
поняли окружающие; однако ж, они догадались, что путешественник спрашивает о
дочери старого Руси.
Память о
старике еще не исчезла между жителями Иматры; они помнили отважного рыболова и
его удивительные рассказы в долгие зимние ночи. Показали Якко на берег, и в
одно мгновение молодой человек бросился в лодку.
Когда он
вышел на берег, слезы брызнули из глаз его; он узнал родимую хижину, родимые
пороги, – сердце его сильно забилось. "Где же Эльса?
Эльса?" – спрашивал он.
Невдалеке
несколько праздных финнов окружали молодую девушку лет двадцати; она перебирала
пальцами по кантеле, пела старинные песни о финском сокровище Сампо и
приплясывала; в переднике ее лежали куски хлеба, полученные ею, вероятно,
от слушателей.
– Вот
Эльса, внучка старого Руси, – сказали провожавшие молодого человека.
– Эльса!
Эльса! – вскричал он и бросился обнимать ее.
Эльса
испугалась, закричала, хотела бежать.
– Эльса!
сестрица! неужели ты не узнаешь своего Якко?..
– Ты
обманываешь меня, Якко умер, убит, – отвечала Эльса и горько заплакала.
– Твой
Якко жив, это я, приемыш твоего деда, понимаешь ли?
Эльса
смотрела на него, но не верила и продолжала плакать.
Якко
едва мог объяснить ей свои мысли. Выучившись почти всем языкам европейским, он
забыл свой собственный и не находил в нем самых обыкновенных слов или
употреблял одно слово вместо другого; но вид родимых мест помогал его памяти, и
финские слова, хотя с трудом, прорастали сквозь пласты чуждых слов и понятий,
как корни берез сквозь финские граниты.
– Ты не
веришь, что я точно Якко? – продолжал он. – Посмотри на меня
хорошенько – неужели я так переменился?
– Якко
был наш, суомиец, а ты не наш, ты большой господин.
– Эльса!
Эльса! я все тот же; только платье на мне другое. Посмотри, вот камень, на
который мы, бывало, взбегали; вот рябина, с которой я бросал тебе ягоды; вот
здесь я тебе сделал рожок из воловьего рога; пойдем в избу, я тебе расскажу,
где что лежало, где мы спали с тобою, где сидел Руси, где сидела Гина за
печкой…
Они
вошли в избу; все было в ней на прежнем месте, только стены немного
покривились; та же четвероугольная печь, то же волоковое окно, те же сосновые
обрубки, та же куча хвороста, служившая постелью. Страшная ночь, рассказ Руси,
его смерть, смерть Гины, – все живо возобновилось в памяти молодого финна;
он все повторил Эльсе с подробностию.
Эльса
уверилась наконец, что пред нею действительно Якко, и бросилась, рыдая, в его
объятия. Они сели.
– Скажи
же мне, Эльса, как живешь ты? Где живешь ты?
– Я живу
здесь, в этой избе.
– Одна?
– Одна;
да чего ж бояться? все здесь свои люди. Днем я хожу к пастору учиться грамоте –
я уж умею читать, Якко, – потом выхожу на дорогу, играю на кантеле, пою –
добрые люди дают мне хлеба – посмотри-ка, я сколько уж набрала его, на целый
год. Тут есть даже кнакебре[7]. –
Эльса с гордостью показала на ворох кусков, ею набранных. – Вечером
прихожу сюда, вспоминаю об отце, о деде, о тебе, Якко, поплачу и лягу спать.
– Ну,
Эльса, скажу тебе, теперь будет не то, – я теперь богат, и ты будешь жить
богато…
– Что же
ты нашел, Сампо, что ли?
– Почти
так.
– Где же
ты нашел его, Якко?
– У
русских…
– Ах, и
рутцы тебя не убили? – вскрикнула Эльса, не поняв своего собеседника…
– Не
рутцы, а русские, Эльса, или, по-твоему, вейнелейсы.
– Так ты
был в их земле?
– Я живу
там и тебя повезу туда с собою…
– Зачем?
Как можно? – вскричала с ужасом Эльса. – Ведь это так далеко, далеко
от нас… Где же мы спать будем?..
– Там, в
моей земле…
– Да
здесь твоя земля, Якко… эта земля моя, мне сказал пастор, а стало быть, и твоя…
– Ты не
понимаешь меня, милая Эльса; в России у меня есть дом, в шесть раз больше,
нежели твоя избушка; там ты будешь ходить в пестром платье, каждый день есть
чистый хлеб…
– Как
это можно? – повторяла Эльса.
–
Послушай! – наконец сказала она ему, – знаешь, что я выдумала; вместо
того, чтоб мне с тобою ехать, ты привези сюда свое Сампо?..
– Это
невозможно, Эльса.
– Отчего
невозможно? Ты думаешь, что я не управлюсь; нет, я большая хозяйка; я умею
коров доить, делать кислое молоко, даже кнакебре напеку на целый год;
а если у тебя столько достанет богатства, то мы купим соли и насолим рыбы,
то-то будет счастье.
Молодой
человек покачал головою, улыбаясь:
– Все
это невозможно, милая Эльса, я служу царю вейнелейсов, я должен ехать в его
землю, а неужели ты меня покинешь?
– Как
мне расстаться с тобою, Якко! Ни за что, ни за что. На мне уж многие хотели
жениться, но я всем отказывала, я всем говорила, что один Якко будет моим
мужем, и теперь говорю, как же мне расстаться с тобою? Но зачем тебе ехать, не
понимаю; по крайней мере, будем ли мы приезжать домой?
– Мы
будем, пожалуй, иногда приезжать сюда.
–
Иногда, а как часто? Каждый день?..
–
Невозможно.
– Ну,
раз в неделю, в воскресенье, в церковь.
– И это
невозможно, а разве раз в год.
Эльса не
отвечала, но горько плакала.
Между
тем невинное предложение Эльсы выйти за него замуж заставило молодого человека
задуматься. Посмотрев пристальнее на Эльсу, он заметил, что, несмотря на ее
странный наряд и на волоса, поднятые на маковку под безобразную шапочку, Эльса
могла почесться красавицей; лицо ее было не совсем правильно, но имело
невыразимую прелесть, особенно когда улыбалась; иногда ее голубые глаза
беспрестанно перебегали от предмета к предмету, иногда оставались совсем неподвижными,
и тогда в них отражалось то грустно-таинственное чувство, которое замечается
лишь у женщин северного племени.
Странные
мысли приходили в голову молодого человека; теперь он уже другими глазами
смотрел на Эльсу; он воображал себе ее одетую в парадное платье, в его доме, в
петербургской ассамблее, и сердце его билось сильно и порывисто; но с другой
стороны, ему страшно казалось соединить навек судьбу свою с женщиною почти
полудикою, которой язык не будет никому понятен, которая понимает в жизни лишь
первые ее потребности; он воображал себе все огорчения, которым она будет
подвергаться в обществе, для нее недоступном, все насмешки, которые будут
преследовать ее безыскусственное простосердечие и совершенное незнание самых
обыкновенных предметов. Он испугался мысли провести с нею три дня в одной
повозке: самая невинность, самая непритворность ее чувств могли быть для них
обоих гибельны.
– О чем
ты задумался, милый Якко? – сказала ему Эльса, схватив его за лицо
руками. – Ты, верно, раздумал и хочешь дома остаться, не так ли? – И
с сими словами она, пока он еще не мог опомниться, горячо поцеловала его в
губы. Невольная дрожь пробежала по членам молодого человека.
– Нет,
Эльса, не то, – отвечал молодой человек, стараясь казаться
хладнокровным. – Ты знаешь дорогу к пастору?
– Как
же, и самую короткую, я все тропинки знаю…
– Поведи
меня к нему.
–
Пойдем, пойдем, но ты, я чай, голоден; есть не хочешь ли? – И с сими
словами она подала ему лепешку из коры пополам с мукою…
Якко с
отвращением и горестью посмотрел на эту странную пищу. – Нет, –
сказал он, – я не хочу есть; пойдем поскорее к пастору.
И Эльса
побежала, схватив Якко за руку и с аппетитом пригрызывая свою лепешку.
В
пасторе Якко нашел человека доброго и образованного. Молодой человек объяснил
ему странность своего положения, и пастор совершенно понял его.
– Я могу
помочь вам, – сказал добрый старик, – жена моя отправляется сегодня в
Ниеншанц, т. е. в Петербург, хотел я сказать; у ней есть место в
одноколке, и ваша Эльса может с нею доехать в этом экипаже, пока еще не
привыкла к лучшим.
Молодой
человек, поблагодарив пастора за его одолжение, прибавил, что у него нет
ничего, кроме кибитки, и должно признаться, сказал он: – что наши русские
повозки вовсе не годятся на ваших горах.
Когда
все было улажено к отъезду, пастор отвел молодого человека в сторону: "Я
должен вас предостеречь, – сказал он, – вы везете Эльсу в чужую
сторону; знайте, что она подвержена чему-то похожему на падучую болезнь;
особенно удаляйте ее от огня и от лунного света: и то и другое, кажется,
производит на нее вредное влияние; от того и от другого она приходит в какой-то
сон и начинает говорить престранные речи. Простой народ считает ее
колдуньей".
От этого
рассказа Якко вздрогнул; он вспомнил забытое им до того гаданье старика и, несмотря
на свою образованность, по духу времени, не мог выбить себе из головы, чтоб
Эльса не была в самом деле околдована. Он не сообщил, однако же, своего
замечания пастору, но дал себе слово не упускать из виду этого обстоятельства.
Много стоило труда уговорить бедную Эльсу сесть в одноколку; она не хотела и
ехать из родины, и не хотела быть не вместе с Якко, и не хотела не ехать. Она
плакала навзрыд; почти без чувств усадили ее в повозку.
Якко с
удивлением замечал во время дороги, что на Эльсу ничто не производило впечатления;
ни любопытство, ни изумление не были доступны ее душе; одно в ней было заметно
– страх при виде чужих и воспоминание о родимой избушке. Наконец повозка
остановилась у петербургской заставы, – караульные солдаты разглядывали
одноколку, отлично окрашенную красною краскою, засматривались и на наших дам.
–
Вот, – толковали они, – и чухна в красной коробке приехала, –
помоложе-то недурна, – хоть куда, – вишь какая смазливая…
Эльса
испугалась, смотря на эти усатые лица, запаленные порохом, выглядывавшие из-под
огромных шишаков. И пасторша струхнула, хотела что-то сказать солдатам, но
немногие русские слова, которые она знала, мешались с финскими и немецкими.
– Что ты
там лепечешь, чухонская ведьма? Или боишься, что сглазят? – сказал один из
солдат, и вся толпа захохотала громким русским смехом.
В эту
минуту Якко догнал наших путешественниц и подошел к одноколке. При виде человека
в немецком кафтане и который притом говорил по-русски, – толпа разошлась.
– Куда
ты завез меня? – говорила Эльса. – Какие люди здесь страшные! И
говорить не умеют, а все что-то так страшно кричат!
Якко
засмеялся замечаниям бедной Эльсы и старался ее утешить. Между тем пасторша поняла
в разговоре русских только одно слово: "ведьма", потому что ей уже не
раз случалось слышать его, она не замедлила рассказать Эльсе, что их бранили, и
Эльса с простодушием спрашивала: по какому праву их бранят, когда они ничего
дурного не сделали?
Якко
шепнул слова два вышедшему на ту пору караульному офицеру; он прикрикнул, и Эльса
видела, как страшные люди в шишаках вытянулись и сделались как окаменелые.
Все это
казалось Эльсе и чудно, и страшно.
На
первую минуту пасторша привезла Эльсу в дом своих родственников; Якко, поручив
им заботу о ее костюме, отправился к Звереву, рассказал ему свое сиротство, как
он призрен был отцом Эльсы, его печальную кончину, чудесное сохранение его
дочери и просил именем благодарности и человеколюбия принять к себе в дом
бедную девушку. Добрый Зверев, посоветовавшись с женою, согласился. И вот наша
Эльса, боязливое, своенравное дитя природы – в фижмах, в полуроброне; ее учат
держаться прямо, ходить тихо, не бросаться на шею Якко; она скована во всех
движениях, не смеет поднять головы, не смеет пошевелиться, едва смеет курнычать
свои печальные финские напевы.
Егор
Петрович Зверев был человек русский, но полунемец или, лучше сказать, полуголландец.
Он не получил большого образования, но долгое пребывание в Голландии сильно на
него подействовало. Он сделался воплощенною аккуратностью: каждый день вставал
в определенное время, надевал белый миткалевый халат, заплетал свою косичку,
выкуривал трубку голландского канастера и принимался за дело, которое
непременно оканчивал в определенный час, и каждый день проговаривал свою
заветную фразу: «уже двенадцать часов за полдень – не пора ли обедать, Федосья
Кузьминишна?» Он не постигал ничего, что делается в России, но делал и говорил
то, а не другое только по той причине, что так следует. Дом его был бы
как заведенная машина, если б не мешала ему немного жена его, Федосья Кузьминишна;
она хотя также жила в Голландии и часто с какою-то гордостью рассказывала о том
своим соседкам, но на нее голландский дух мало подействовал; она никак не могла
понять, зачем каждый день надевать чистое белье; зачем в 8 часов, а не прежде и
не после поливать цветные луковицы; почему каждую субботу надобно было мыть все
полы, окошки и стены и натирать мебель воском, когда не ожидали гостей. От
этого между супругами бывали стычки; увидя кресло не на прежнем месте, стол
ненатертый, Егор Петрович говаривал жене шепотом, чтоб не слыхали домашние: «Не
вашего ума это дело, Федосья Кузьминишна». А она отвечала также шепотом: «Что
делать, глупешенька, мой батюшка, так век изжила, так и в могилку пойду».
Никогда эти ссоры не выходили наружу; только домашние знали, что когда старики
начинали говорить друг другу: вы, то значило, что между ними черная
кошка пробежала.
Марья
Егоровна была срединою между отцом и матерью; полна, свежа, румяна, но немного
смугловата; ей бы и поспать, и на лежанке понежиться, и поболтать под вечерок с
просвирнею о том, что делается в околотке, но настанет утро, и Марья Егоровна
затянется в корсет, наденет фижмы и сделается совсем голландкою; не
разговорится, не пошевелится и только крахмаленные манжеты оправляет. Сын
Зверева был всегда в походах.
Затем к
семье причислялись Евдоким, старый слуга Зверева, и несколько сенных девушек,
из которых главная была Анисья-ключница, которой отличительным свойством была
ужасная скупость, не за себя, но за господ; отпуская масло и другие домашние
снадобья, она всегда отмеривала немножко меньше положенного и преравнодушно
выслушивала за такое соблюдение господского добра жестокие упреки других
челядинцев.
Вот в
какую семью попала наша Эльса. Сначала, запутанная новостью предметов, видом чужих
людей, она слепо повиновалась, но возвращаясь в отведенную ей комнату, она с
восхищением сбрасывала свой дневной наряд, начинала потихоньку плакать, петь
свои финские песни, а потом и приплясывать.
Якко
через день навещал Эльсу; чаще нельзя ему было ходить; он занят был важным
делом, переводил какую-то книгу по цифирной науке; работы было много, а
времени мало – торопили нашего переводчика.
– Якко,
Якко, – говорила ему Эльса, – здесь беда, здесь в баню нельзя ходить…
– Отчего
же, Эльса?
– Как
отчего? Я хотела потихоньку истопить, чтоб не околдовали, но эти вейнелейсы большие
тиетаи, тотчас узнали и помешали; все со мной в баню хотят идти и все смеются
надо мною; они заколдуют меня – это верно… – И Эльса заплакала.
Якко
напрасно старался вразумить ее.
–
Нет, – говорила она, – что ни говори, а здесь страшная земля, и
страшные люди твои вейнелейсы. Онамедни повели меня по улицам, смотрю – они
собрались и землю наказывают…
– Как?
Землю наказывают?..
– Да! Ты
скажешь, что и это неправда, я сама видела, как они обтесали дерево колом и
огромным молотом на веревках вбивали его в землю, так что земля стонала, а
они-то кричат, кричат… до сих пор у меня в ушах отдается этот страшный крик.
–
Глупенькая! Да они вбивали сваи, чтобы строить дома!..
– Да
зачем же, у нас на Вуоксе дома и без того строят?
– Да на
Вуоксе камень, а здесь земля не держит…
– И
земля здесь не держит! Все здесь не так, как надобно! Страшно, страшно, Якко!
Послушай – а это что значит? Когда мы ехали сюда, я на дороге видела,
вейнелейсы подложили огонь под большой утес, утес грохнул и разлетелся на
мелкие части – что они, Сампо, что ли, искали?
– Нет,
они хотели разрыхлить землю…
– Как?
Им кажется земля то слишком мягка, то слишком крепка – вот видишь, что ты сам
противоречишь себе, Якко; уж я вижу, что тут что-то нечисто. Страшно, страшно
здесь, Якко. И грустно мне, грустно! Как вспомню наши горы, наши дороги – так и
зальюсь слезами; там я была вольна, как рыба в воде, – день-деньской на
свежем воздухе, над головою небо, кругом туман, в недалеке родимые песни и на
душе чудный говор; а здесь ни неба, ни тумана, ни песен, ровно нет ничего,
а сердце молчит от испуга: поверишь ли, Якко, я здесь еще ни раза не слыхала
родимой песни; только и видишь в окошко, что ходят усатые вейнелейсы да землю
роют, Сампо ищут. Послушайся меня, милый Якко, убежим, убежим отсюда скорее,
пока вейнелейсы и нас в землю не вколотили или на воздух не взорвали…
– Куда
же бежать нам, Эльса?
– Куда?
Домой, домой, на Вуоксу, на Вуоксу – не век же здесь жить! Там мы женимся,
Якко, и забудем про вейнелейсов…
Подошедшая
Федосья Кузьминишна прервала разговор.
– Скажи
ей, батюшка Иван Иваныч, ведь она ни по нашему, ни по-немецкому не
понимает, – что она все хныкает; уж, правду сказать, Бог с ней, такая чудн
а я; хлебного мякиша не ест да корки собирает; за обедом в рот ничего не
возьмет, а только день-деньской свои корки гложет…
– Э!
Федосья Кузьминишна, – сказал Егор Петрович, – это уж народ такой, я
знаю его; – ничего! Молода, попривыкнет… так следует.
– Это
ваша воля, – отвечала Федосья Кузьминишна с видимым
неудовольствием, – а ведь вы сами же в доме порядка требуете и
выговариваете, когда на полу крошки или что другое.
Марья
Егоровна молчала, но проницательный Якко скоро заметил, что она исподтишка ревновала
его к Эльсе.
У Ивана
Ивановича на уме было и один и два. Нравилась ему Марья Егоровна, девушка красивая,
смиренная, по-тогдашнему довольно образованная; семейство у ней доброе; Марья
Егоровна не осрамила бы его и в царской ассамблее; но как сравнить ее с Эльсою,
то своенравною, то задумчивою, то веселою Эльсою. Когда, сидя под окном
пригорюнившись, она раскидывала свои белокурые локоны, глаза ее
беспрепятственно перебегали от предмета к предмету, и она напевала любимую свою
песню о том, как жаловалась береза на свое одиночество, Якко забывал и свои житейские
выгоды, и надежды; родное чувство отзывалось в груди его, и он, подобно Эльсе,
готов был все бросить и укрыться с нею в бедную избушку на финляндских порогах.
Проходило
несколько часов, Якко вспоминал о своей новой жизни, о своем участии в трудах
Великого, и тогда пелена спадала с глаз его: он видел в себе будущего
начальника адмиралтейской типографии, воеводу, близкого к государю человека;
тогда, по неизбежному сцеплению мыслей, он пугался своей женитьбы на полудикой
чухонке, и Марья Егоровна представлялась ему во всем великолепии, в богатом
робронте, при дворе, окруженная иностранными гостями, которые не могут
надивиться ее ловкому и учтивому обращению.
В таких
мыслях Якко, не зная, на что решиться, уходил домой и принимался за свою книгу
о цифирной науке.
Егор
Петрович с отцовскою добротою занимался бедной Эльсою; не знала она грамоте –
он приговорил приходского дьячка учить ее по-русски; но неискусство ли учителя,
неспособность ли ученицы, – наука не давалась; Эльса училась, терзалась и
плакала как ребенок. Приставлен был к ней и танцмейстер; хотя долго бился
добрый немец Штолцерман, но эту науку она поняла скорее – Эльса уже очень
порядочно танцевала менуэт, кланялась и приседала; Егор Петрович не мог ею
довольно налюбоваться; но после урока Эльса по-прежнему убегала в свою комнату,
пригорюнивалась и опять начинала петь о своей березе.
Скоро
представился Эльсе случай показать свои танцевальные способности во всем
блеске.
Егор
Петрович объявил, что следует всем явиться на ассамблею, которая была объявлена
в их соседстве. Федосья Кузьминишна. было и воспротивилась, но Егор Петрович ей
заметил: "Не прекословьте. Федосья Кузьминишна, так следует: на ассамблеях
бывают и шкипера голландские с женами, и знатные люди, и сам государь, а вы
только приоденьтесь хорошенько и приоденьте девиц – так следует, говорю
вам".
–
Как? – возразила Федосья Кузьминишна, всплеснув руками, – и чухонку с
собою везти?
–
Непременно, Федосья Кузьминишна, и чухонку; пусть ее людей увидит, себя
покажет, надобно же ей свет узнать… Так следует, говорю я вам, Федосья
Кузьминишна.
На такую
речь у Федосьи Кузьминишны не было возражений, она покачала головой и отправилась
приготовлять наряды.
Наступил
день ассамблеи. Егор Петрович, в голубом глазетовом кафтане, с стразовыми пуговицами,
в полосатых чулках с красными стрелками и с корабликом под мышкою; Федосья
Кузьминишна в желтом робронте, Марья Егоровна в розовом, – Эльса, которую
звали Лизаветой Ивановной, – в ярко-красном, что ей очень нравилось.
Вот
пришли в ассамблею; Егор Петрович, раскланявшись с хозяином, скоро встретил голландского
шкипера, который пригласил его на кружку пива и на трубку табака. Федосья Кузьминишна
уселась с барышнями к дамам, которые плотно пристали по стенке, ожидая начатия
танцев: старые с ужасом, молодые с нетерпением. Эльса ничего не видала и не
слыхала, что вокруг нее; она была так испугана с самого своего приезда, что
сердце ее находилось беспрестанно то в тревоге, то в полном онемении. Она села
также и по обыкновению бессознательно поводила глазами со стороны в сторону;
перед ней пестрела толпа, и лица, сменяясь одно другим, почти исчезали для нее;
шум разговоров, свет, движение, все оглушало ее и физически, и морально. Вдруг
глаза ее остановились на противоположной стенке; она смотрит: что-то знакомое…
да, это берега Вуоксы, это пороги – над ними светит солнце – радуга играет в
причудливых брызгах, – тут и родная избушка, и утес, к которому она
прислонена… Не чудо ли это? Не какой ли тиетай перенес Эльсу на родимую землю…
Сердце Эльсы сильно бьется, в глазах темнеет… она слышит шум порогов… ей дует в
лицо влажный ветер… чудятся звуки родного языка, – не поют ли любимую ее
песню? – И Эльса начинает потихоньку напевать ее… потом… громче, громче –
вдруг ужас! раздался какой-то треск, Эльсу окружают страшные лица вейнелейсов,
между ними Якко с сердитым лицом говорит: "Опомнись, опомнись,
Эльса…"
И все
исчезло – Эльса видит себя опять в ассамблее, вокруг нее толпа народа, все
хохочут, Якко смотрит на нее с недовольным лицом.
– Что с
тобою, Эльса? – спрашивает ее Якко. Эльса не могла отвечать, но только
рукою показала на противоположную стену.
Тогда
для Якко все объяснилось; на стене висела большая картина, представлявшая иматрский
водопад. Вокруг Якко столпились люди, и он несколько раз принужден был
рассказать, отчего распелась хорошенькая чухонка; говорят, что и государь, из
другой комнаты пожелавший узнать о причине тревоги, улыбнулся, слушая рассказ
об этом невольном порыве души бедной Эльсы.
Егор
Петрович был очень оконфужен этим происшествием и не знал, что отвечать на
упреки Федосьи Кузьминишны, которая толковала, что Лизавета Ивановна навек их
осрамила при всей компании. А делать было нечего, уйти домой нельзя из
ассамблеи, царь еще не выходил – и волею-неволею надобно было остаться. Скоро,
чтоб отвлечь внимание от Эльсы, Якко пригласил Марью Егоровну на менуэт; он был
отличный танцор, все поднимались с места, когда он выводил даму, и теперь
мгновенно вокруг танцующих составился маленький кружок; между зрителями была и
Эльса; она с удивлением смотрела на своего Якко и старалась себе растолковать:
почему не пошел он танцевать с нею? Она была печальна и угрюма во весь вечер и
на все вопросы Якко ничего не отвечала.
Между
тем Федосья Кузьминишна положила во что бы то ни стало сбыть с рук эту проклятую
чухонку, которая в людях срамит, а дома какие-то чудеса делает. Мы передадим
тайный разговор между Федосьей Кузьминишной и Егором Петровичем в спальной
комнате. Федосья Кузьминишна, как женщина тонкая, начала разговор стороною.
– Знаешь
что, Егор Петрович, – сказала она, – ведь житье в Петербурге
становится дорогонько…
– Да и я
замечаю это, Федосья Кузьминишна, – да что делать? – так следует, в
город все народ прибывает…
– А вот
Анисья докладывала мне, что у нас расход прибывает: и масла, и хлеба, и
солонины – всего не в пример больше выходит…
– Да
отчего бы это так, Федосья Кузьминишна?..
– Ну,
сам посуди, Егор Петрович, лишний человек в доме не шутка… сегодня, да завтра,
да всякий день за столом, в комнату свеча… и мыло лишнее…
– Эку
историю завела! Что тебя, Лиза-то, что ли, объедает? – Эх, матушка, уж на
это, кажись, пожаловаться не можешь; ест, что твой цыпленок… не тем, Федосья
Кузьминишна, наши деды разорялись.
– Это
воля ваша, Егор Петрович, как сами рассудите, а мое дело сказать вам, что
нехорошо…
– Что
нехорошо?
– Да и в
ассамблее вашей, что ли? Осрамила нас…
–
Правда, нехорошо – да прошлое дело, Федосья Кузьминишна, сам государь про то
знает и только что улыбнуться изволил…
– Ну, да
одно ли это, и многое другое нехорошо.
– Ну да
что ж еще?..
– Да
так, – нехорошо – она, Бог с ней, чудн а я такая – вы знаете,
шведки…
– Да
Лиза не шведка…
– Ну,
все равно, из шведской же земли…
– Ну, да
что ж она такое?.. Ну, говори.
– Ну да
что? Ведь вы рассердитесь; попросту вам скажу – она ведьма, колдует…
Егор
Петрович расхохотался:
– Не
вашего ума это дело, Федосья Кузьминишна, такие речи говорить… ну, что такое
ведьма?
– Что
делать, батюшка, глупешенька, совсем глупешенька, так век изжила, так и в
могилу пойду; не понимаю я вашей премудрости, а сужу попросту: ведьма так ведьма.
Послушайте-ка, что весь дом говорит.
– Ну,
что еще болтают?..
– А вот
что: намедни девушки смотрят, а Лизавета Ивановна пробирается в баню и хочет топить…
вот девушки ей говорят: "Э, матушка, давно бы сказала, мы тебе, пожалуй,
баню истопим. Истопили баню, пришли за нею, она было пошла, – как увидела,
что в баню, то и руками и ногами – а? Как это по-вашему? По-нашему оттого, что
ведьма…
– Нету
ведьм, Федосья Кузьминишна, это только старые девки болтают… просто дика еще,
не обтерлась в чужих людях.
– Ну, а
это что такое, скажу вам, Егор Петрович, что она день-то деньской напевает себе
под нос? – Уж не даром…
– Ну, да
что напевает? Песни; уж у них обычай такой, все, знай, курныкают…
– Ну
хорошо, – а что ж это такое: девушки раз ночью слышат, что у нее шум в
комнатке… смотрят в щелочку, она поет да прядает на полу, да колдует…
– Ну
так, молодая девка дурачится…
– Вы все
так толкуете, Егор Петрович, а это что? недавно чухна приехал к нам на двор с
провиантом… она увидела, выскочила и прямо к нему на шею, и начали толковать
по-своему…
– Эка
мудрость – земляка увидела. Однако после договорим, Федосья Кузьминишна, уже
скоро 6 часов; чем из пустого в порожнее пересыпать, да на бедную девку
нападать, подай-ка мне епанчу – пора в канцелярию.
Федосья
Кузьминишна исполнила приказание мужа, но оставшись одна, покачала головою,
всплеснула руками и проговорила:
– Вот
всегда-то так… бишь ты, из пустого в порожнее… бедную девку… ах, ты старый греховодник!
Батюшки-светы, да, никак, она его околдовала!
В
столовой между тем происходила другая сцена. Якко, проходя рано поутру мимо
дома Зверева, не мог не зайти проведать семью, которая для него была второю
отчизною.
Марья
Егоровна прибирала завтрак: ее черные локоны, загнутые за уши, были прикрыты белым
голландским чепчиком; полосатая ситцевая кофта обхватывала гибкую талию; рукава
с манжетами, доходившие только до локтя, открывали полную упругую ручку; черные
башмаки с красными каблуками, застегнутые оловянною пряжкою, стягивали стройную
ножку. Заспанные глазки Марьи Егоровны были томны; то вспыхивали блестящими
искрами, то покрывались прозрачною влагою: девические мечты, может быть, ночные
грезы придавали лицу Марьи Егоровны задумчивость, которая обыкновенно исчезала
в течение дня.
– Как вы
сегодня к лицу одеты! – сказал Иван Иванович, целуя у ней руку.
– Вы
шутите, – сказала Марья Егоровна, улыбаясь, – на мне домашнее платье,
которое вы не раз уже видели.
Иван
Иванович смешался; он совсем не то хотел сказать; душа его говорила: – Как вы
хороши сегодня, Марья Егоровна, в вас сегодня что-то особенно привлекательное.
Но такие фразы тогда не говорились девушкам и были бы сочтены неприличием. Чтоб
переменить разговор, Иван Иванович спросил:
– А где
все наши?
–
Батюшка в канцелярии, матушка хлопочет по хозяйству…
Якко
замолчал и стал рассматривать скатерть с большим любопытством: но когда Марья
Егоровна отходила от стола, Якко взглядывал на прекрасный стан ее, и сильно
брало его раздумье; он не мог не любоваться, и красотою Марьи Егоровны, и ее
ловкостью, и любовью к порядку – "добрая жена! добрая
хозяйка!" – эти слова невольно отдавались в его слухе. Вот Марья
Егоровна придвинула стул к шкапу, чтоб поставить посуду на верхнюю полку; она
проворно вскочила на стул, одна ее ножка уперлась в подушку, другая поднялась
на воздух, и эта стройная ножка, в сером чулочке со стрелками, была в полной
красоте своей. Сердце забилось у молодого человека, глаза его заблистали… он
хотел что-то выговорить, но дверь отворилась и вошла Эльса; ее кофта была едва
застегнута, белые, как лен, локоны рассыпались по белой, полуоткрытой груди,
она была печальна, в глазах выражалось что-то полудикое; по инстинкту она
поняла то чувство, с которым Якко смотрел на Марью Егоровну, и сердито
отвернулась.
–
Здравствуй, Эльса! – сказал Иван Иванович по-русски, подавая ей руку.
– An
mujsta! – отвечала Эльса, надувши губки и отдергивая руку.
– Да
скоро ли же ты выучишься по-русски?
– An
mujsta! – повторила Эльса.
– Что с
тобою, Эльса? – сказал Иван Иванович по-фински. – На кого ты
сердишься? Разве тебя обидели?
– Что
тебе до меня? – ты знай пляши с нею, вот твое дело.
– А, так
ты сердишься, зачем я плясал с Марьею Егоровною? Что ж за беда? Пора тебе привыкнуть
к здешним обычаям…
– По
нашему обычаю, только пляшут с своею невестою…
–
Растолкуйте Лизавете Ивановне, – прервала Марья Егоровна, лукаво
поглядывая на Эльсу, – чтобы она не забывала шнуроваться; маменька
сердится, а мы никак ей не можем растолковать, что это неприлично.
Якко
передал эти слова Эльсе. Эльса всплеснула руками.
– Ах,
Якко, как тебя околдовали вейнелейсы. Все, что они ни выдумают, тебе кажется
хорошо, а все наше дурно. Ну зачем они меня стягивают тесемками? Зачем?
Расскажи! Им хочется только, чтоб я не могла ни ходить, ни говорить, ни дышать
– и ты то же толкуешь. Ну скажи же мне – зачем шнуроваться? Что, от этого
лучше, что ли, я буду?
Якко
думал, что отвечать на этот странный вопрос, а между тем невольно смотрел на
свою прекрасную единоземку.
Правда,
грудь ее была полураскрыта, но эта грудь была бела как снег; локоны в
беспорядке рассыпались по ее плечам, но так она еще более ему нравилась; туфли
едва были надеты, но тем виднее открывали ножку стройную и красивую. Странные
мысли боролись в душе молодого человека.
Эльса
продолжала:
– Вот
Юссо, так похитрее тебя – его вейнелейсы не могут обмануть; послушайка, что он
говорит.
– Какой
Юссо?
– Ты не
знаешь Юссо, сына Юхано? Ты всех своих позабыл, Якко, вейнелейсы совсем отбили
у тебя память.
– Где же
ты его видела?
– Его
вейнелейсы заставили везти сюда разные клади – я его тотчас узнала из окошка…
– Что же
он тебе такое рассказывал?
– О!
Много, много! У Анны отелилась корова, Мари вышла замуж за Матти…
– Что же
еще он тебе рассказывал?..
– Ты
хочешь все знать? – сказала Эльса, хлопая в ладоши с насмешливым
видом, – пожалуй, скажу. Он звал меня с собою домой.
– Звал с
собою?
– Да! Он
похитрее тебя, он говорит, что как ни лукавы вейнелейсы, а им несдобровать, рутцы
хотят еще раз напустить на них море…
– Что за
вздор, Эльса… да ведь это сказка…
– Да!
сказка! – Юссо не то говорит; он толкует, что нам, бедным людям, не годится
жить с вейнелейсами; он сказал еще, что набрал здесь много денег за масло –
вейнелейсам Бог и масла не дает… – Поедем, говорил он, со мной, я на тебе
женюсь, денег у меня много, круглый год будем есть чистый хлеб.
– И ты
согласилась?
– Нет
еще, – отвечала Эльса лукаво, – я сказала, что спрошусь об этом у
братца.
Марья
Егоровна, видя, что ею не занимаются, вышла из комнаты.
Якко
задумался. На что ему было решиться? – Дожидаться ли долгого, долгого
образования полудикой Эльсы, подвергать ее всем неприятностям непривычной жизни
или махнуть рукой и возвратить ее на родину. При мысли о родине сердце его
билось невольно: Эльса, подруга детства, казалась еще прелестнее и расстаться с
нею, расстаться навсегда – казалось ему ужасным. Эльса поняла действие своего
рассказа; она захлопала в ладоши, прыгнула к Якко на колени, схватила его за
голову, прижала к себе, свежая, атласистая грудь ее скользнула по лицу молодого
человека, он вздрогнул и почти оттолкнул ее от себя.
Эльса
заплакала. – Якко выбежал из комнаты.
– Он не
хочет и целовать меня, – проговорила Эльса сквозь слезы, – о! это не
даром, эта Мари приколдовала его; он с нею пляшет, он на нее так смотрит –
хорошо, увидим… недаром старые люди меня учили…
С этими
словами Эльса побежала в свою комнату – и дверь на крючок; через час она вышла
и тихонько пробралась в комнату Марьи Егоровны; осмотрелась – видит: нет
никого, поспешно приблизилась к постели и сунула что-то под перину.
Эльса
обернулась, за нею машутся накрахмаленные лопасти чепчика, блещут глаза сквозь
пару медных очков.
Из-под
чепчика послышался грозный голос Анисьи-ключницы:
– Что ты
это, матушка, здесь проказничаешь? – С сими словами старушка руку под
перину и вынула оттуда маленький сверток; скорее к Федосье Кузьминишне – и
началась потеха.
На общем
совете с Анисьею и другими сенными девушками положено было раскрыть сверток.
Раскрыли не без страха, не без приговорок – видят: две тряпочки, бумажка,
уголек и глинка, все перетянуто накрест черною ниткою. Колдовство – нет ни
малейшего сомнения.
За Эльсой
– показывают – спрашивают – она лукаво смеется.
Уже
поговаривали связать колдунью и представить в полицию, но, к счастью,
возвратился Егор Петрович. Узнавши о причине суматохи, он наружно улыбнулся, но
внутренне и сам притрухнул: "кто ее знает?" – подумал он.
Помолчавши с минуту, он сказал: что мы ее спрашиваем? ведь она нас не понимает
и рассказать не может. Полагать должно так, сглупа; вот вечером придет Иван
Иванович, пускай он ее расспросит, что и зачем она это делала.
–
Хорошо, батюшка, – отвечала Федосья Кузьминишна, – вы и видите, да не
верите; быть по-вашему, только до тех пор позвольте мне припереть ее на крюк.
Не шутка, батюшка, ведь Марья Егоровна-то нам не чужая. – Егор Петрович
промолчал.
К вечеру
выпустили бедную затворницу. Было уже около семи часов вечера; на дворе морозило;
в гостиной Зверева затопили огромную шведскую печку; заслонки были
распахнуты; свет из устья багровым туманом проходил по комнате; тень от окошек,
освещенных полною луною, резко обозначалась на торцевом полу; две нагоревшие
свечи стояли на столе и колебались от движения воздуха; все эти роды освещения
мешались между собою; отраженные ими причудливые тени мелькали на потолке, на
широком деревянном резном карнизе и на стенах, обитых черною кожею, с
светящимися бляхами.
За столом
сидели: Зверев, его жена и Якко. Казалось, они только что кончили длинный, неприятный
разговор, за которым последовало совершенное молчание. Наконец, двери
отворились, и вошла, как преступница, бледная, трепещущая Эльса. Якко с важным
видом показал ей на стул, стоявший против огня. Эльса не хотела садиться, но
Якко грозным голосом подтвердил свое приказание, и Эльса повиновалась.
Она села
на стул, сложила руки и устремила в устье неподвижный взор.
– Не
пугайся, Эльса, – сказал Якко по-фински, тихим голосом, – тебе никто
не сделает зла; но скажи мне откровенно, что значит этот сверток, который ты
видишь здесь на столе? Какое твое было намерение? – Эльса ничего не
отвечала и все пристальнее устремляла глаза в устье очага; лицо ее разгорелось;
локоны повисли на глаза; лунный свет широкою полосою ложился на ее белое
платье; она трепетала всем телом, как пифия на очарованном треножнике. –
Отвечай же, – повторил Якко, устремив на Эльсу сердитые глаза.
– О чем
ты спрашиваешь меня, Якко, – наконец сказала Эльса прерывающимся
голосом, – сверток безделица… ребяческая шутка… я думала этим средством
отучить тебя от этой Марии, которая хочет отнять тебя у меня… Но теперь не то…
совсем не то… теперь… я все знаю, все вижу; теперь я сильна, и вы все… ничто…
предо мною…
– Что ты
говоришь, Эльса? – сказал Якко с видимым смятением, – ты не помнишь
себя.
Эльса
засмеялась странным хохотом.
– Иль ты
не видишь, – продолжала она, – там… далеко… в средине пламени… алые
палаты моей сестрицы… вот она… в венке из блестящих огней; она улыбается… она
кивает мне головою… она сказывает, что я должна говорить тебе…
Тут Якко
вспомнил слова пастора, хотел броситься к Эльсе и прекратить ее очарование; но
любопытство и какая-то невидимая сила удержали его на стуле.
Эльса
продолжала:
– Я еще была
ребенком, когда старый Руси брал меня к себе на колени и садился против огня;
он накрывал руками мою голову и, показывая на устье печи, говорил: "Эльса,
Эльса, смотри свою сестрицу". Тогда я, неразумная, боялась, хотела
вырваться из рук старика, но невольно глаза мои устремлялись на огонь и скоро
уже не могли оторваться; скоро в глубине, посреди раскаленных угольев, я
видела, как теперь вижу, великолепные палаты; там столбы из живого пламени
вьются, тянутся в небо и не тухнут. От них сыплются багряные искры и блестят на
белой огнепальной стене: посреди тех палат мне являлось лицо ребенка,
совершенно похожего на меня; оно улыбалось, манило меня к себе, исчезало в
потоках пламени и снова появлялось с тою же улыбкою. – "Сестрица,
сестрица, – говорила она мне, – когда же мы с тобой соединимся?"
И сердце мое рвалось к прекрасному ребенку, и он все улыбался и манил меня.
Стоило мне подумать о чем-нибудь или старый Руси спрашивал меня, и с дальней
стены срывалася пелена, и я видела все, что на земле и под землею, и горы, и
леса, и пропасти водные, и людей, и слышала, что они говорили, видела, что они
делали. "Беги отсюда, – говорит мне теперь сестрица, – здесь
развлекут тебя, удалят тебя от меня, погасят, ты отвыкнешь понимать язык наш!
На берегах Вуоксы люди не совратят тебя, там сосны и утесы безмолвны, луна
светит своей живительной силой и духотворит грубое тело; там в лучах луны, в
потоках пламени мы сольемся веселым хороводом, облетим всю землю, и вся земля
для нас будет светла и прозрачна". Слышишь, Якко, что говорит сестрица;
тебя одного не достает нам; и тебя, неразумный, оживляла могучая сила
старого Руси; ты наш, Якко! ты мой и ничто не разлучит меня с тобою; забудешь
обо мне – вспомнишь в горькую минуту. Оставь этих людей, Якко; в наших
живоогненных чертогах светло и радостно, там встретимся мы и в одну пламенную
нить сольемся с тобою. Правда, еще не пришло мое время: скоро ли? спрашиваю у моей
чудной сестры. – "Не скоро, – отвечает она, – все вырастает
по степеням, как дерево из зерна. Сперва на земле, потом под землею, а потом…
над землею, Эльса, и нет границ нашей силе и нашему блаженству!"
Якко не
дал ей продолжать.
– Тут
происходит что-то странное, – сказал он Егору Петровичу, – она вне
себя; я вам советую послать за лекарем.
– Да что
ж она вам сказала? – спрашивал Егор Петрович.
–
Ничего, – отвечал Якко, – вы не должны ее бояться; она больна, на нее
находит… Пошлите за доктором, повторяю вам, пусть он ее увидит в этом
положении.
–
Пожалуй, – отвечал Егор Петрович. – Иван Христианович недалеко от нас
живет и по вечерам бывает дома. – Послали за лекарем, а Эльса все сидела
против огня, то смеялась, то говорила непонятные речи, то складывала руки, как
будто умаливая кого о чем. Якко с любопытством ее рассматривал, положив, во что
б ни стало, дождаться разрешения этой загадки.
Через
четверть часа пришел Иван Христианович, чопорный немец, в коричневом кафтане, с
укладными пуговицами; в руках у него была трость с костяным набалдашником;
он очень важно постукивал ею, поплевывая со стороны на сторону, ибо имел
привычку беспрестанно жевать табак, что тогда почиталось универсальным
лекарством от всех болезней.
– Где ж
больная? – спросил он по-немецки.
– Меня
почитают больною, – отвечала Эльса на немецком языке. Удивление Якко было
невыразимо. Он знал, что в обыкновенном состоянии Эльса не знала ни слова
по-немецки.
– Что же
ты чувствуешь, мое милое дитя? – сказал Иван Христианович.
– Добрый
лекарь, неразумный лекарь, ты хочешь лечить меня. Знаешь ли ты, кого ты хочешь
лечить? Умеешь ли ты лечить огнем и пламенем? Смотри, сестрица смеется над
тобою, добрый лекарь, неразумный лекарь.
Иван
Христианович слушал, слушал ее с удивлением – нюхал табак и ничего не понимал.
Между
тем огонь гас мало-помалу в очаге, луна сокрылась за ближним домом: с тем
вместе уменьшалась говорливость Эльсы. Наконец она как будто проснулась.
– Где я?
Что со мною? – сказала она по-фински. Доктор щупал у ней пульс, Зверев и
Якко смотрели на нее с участием. Между тем Якко рассказал лекарю все
происшедшее.
Нахмурив
брови и усердно нюхая табак, Иван Христианович проговорил:
–
Странное дело, но бывали такие примеры, от действия жара нервные духи
подымаются и действуют на головной мозг; а оттого мозг приходит в нервное
состояние, так и Цельзиус пишет; впрочем, пироманция, или гадание огнем, была
известна и древним и производила у них подобные явления; странно, что она и
доныне сохранилась. Но бояться нечего! Уложите больную в постель, я вам пришлю
из дома одно славное лекарство, которое, как доказывает наш славный голландский
врач Фан Андер[8],
помогает от всех болезней, а именно: опиума. Давайте ей каждый день по четыре
капли, да поите ее больше кофеем, и вы увидите, что всю блажь с нее как рукой
снимет.
На
другой, на третий день бедная Эльса в самом деле была больна от действия
универсального лекарства, на четвертый она уж почти не вставала с кресел; то
делалось у ней волнение в крови, то сонливость. Бедное дитя природы ничего не
понимала, что с нею делают: зачем держат ее взаперти, зачем вливают в нее
какое-то снадобье, которого действие, однако же, казалось ей довольно приятным;
но часто она забывала все происходящее, и все ее внимание обращалось к герою
финских преданий, славному Вейнемейнену. Она вспоминала, как он из щучьих ребер
сделал себе кантелу, как не знал, откуда взять колки и волос на струны, и в
забытьи напевала:
Рос в
поляне дуб высокий:
Ветви
ровные носил он
И по
яблоку на ветви
И на
яблоке по шару
Золотому,
а на шаре
По
кукушке голосистой.
И
кукушка куковала.
Долу
золото струилось,
Серебро
лилось из клева,
Вниз на
холм золоторебрый,
На
серебряную гору:
Вот
отколь винты для арфы
И колки
для струн взялися.
Из чего
же струн добуду.
Где
волос найти мне конских?
Вот, в
проталине, он слышит,
Плачет
девушка в долине,
Плачет
– только вполовину,
Вполовину
веселится,
Пеньем
вечер сокращает
До
заката, в ожиданьи.
Что
найдет она супруга,
Что
жених ее обнимет.
Старый,
славный Вейнемейнен
Слышит
жалобу девицы,
Ропот
милого дитяти.
Он
заводит речь и молвит:
"Подари
мне дар, девица!
С
головы один дай локон.
Пять
волос мне поднеси ты,
Дай
шестой еще вдобавок.
Чтоб у
арфы были струны.
Чтобы
звуки получило
Вечно
юное веселье".
И дарит
ему девица
С
головы прекрасный локон,
Пять
волос еще подносит,
Подает
шестой вдобавок.
Вот
отколь у арфы струны,
У
веселья звуки взялись.[9]
Но вдруг
голос Эльсы возвышается; глаза блистают, и она с гордостью напевает:
Так
играет Вейнемейнен:
Мощный
звон летит от арфы,
Долы
всходят, выси никнут,
Никнут
выспренные земли.
Земли
низменные всходят,
Горы
твердые трепещут,
Откликаются
утесы,
Жнивы
вьются в пляске, камни
Расседаются
на бреге,
Сосны
зыблются в восторге.
Сладкий
звон далеко слышен,
Слышен
он в шести селеньях,
Оглашает
семь приходов,
Птицы
стаями густыми
Прилетают
и теснятся
Вкруг
героя-песнопевца.
Суомийской
арфы сладость
Внял
орел в гнезде высоком,
И
птенцов позабывая,
В
незнакомый край несется,
Чтобы
кантелу услышать.
Чтоб
насытиться восторгом.
Царь
лесок с косматым строем
Пляшет
мирно той порою,
А наш
старый Вейнемейнен
Восхитительно
играет,
Тоны
дивные выводит.
Как
играл в сосновом доме,
Откликался
кров высокий,
Окна в
радости дрожали.
Пол
звенел, мощенный костью,
Пели
своды золотые.
Проходил
ли он меж сосен,
Шел ли
меж высоких елей –
Сосны
низко преклонялись,
Ели
гнулися приветно,
Шишки
падали на землю,
Вкруг
корней ложились иглы.
Углублялся
ли он в рощи,
Рощи
радовались громко;
По
лугам ли проходил он, –
У
цветов вскрывались чаши,
Долу
стебли поникали.
Но часто
слова песни сближались с ее собственным положением, и она жалобным напевом
отвечала Вейнемейнену, когда он спрашивает плакучую развесистую березку, о чем
она плачет:
Про
меня иной толкует,
А иной
тому и верит,
Будто в
радости живу я,
Будто
вечно веселюся.
Оттого,
что я, бедняжка,
Весела
кажусь и в горе,
Редко
жалуюсь на муки,
У меня,
у горемыки,
У
страдалицы, ведь часто
Летом
рвет пастух одежду;
У меня,
у горемыки,
У
страдалицы, ведь часто
На
печальном здешнем месте,
Середи
лугов широких
Ветви,
листья отнимают,
Ствол
срубают на пожогу,
На
дрова нещадно колют.
Были
люди и точили
Топоры
свои на гибель
Головы
моей победной.
Оттого
весь век горюю,
В
одиночестве я плачу,
Что
беспомощна, забыта,
Беззащитна,
я осталась
Здесь
для встречи непогоды,
Как
зима приходит злая.
И к
концу песни Эльса начинала плакать и плакала горько. Так заставал ее Якко, и
все его старание утешить, вразумить ее было тщетно. Странная привязанность к
родине еще более усилилась в Эльсе ее затворничеством. Якко не знал, что и
делать: в продолжение трех месяцев образование Эльсы нимало не подвинулось; ее
понятия не развивались; все народные предрассудки пребывали во всей силе;
оставить ее в доме Зверева – не было возможности; жениться на ней – одна эта
мысль обдавала Якко холодом; он невольно сравнивал свое состояние с прекрасною
машиною, в которой было только одно колесо неудачно сделанное, но которое
нарушало порядок действия всех других колес; он не мог не сознаться, что Эльса
была для него помехою в жизни; его внутреннее неудовольствие отражалось в его
словах, а Эльса оттого еще пуще горевала. А между тем Эльса была прекрасна,
между тем в ее глазах светилось ему родное небо, баснословный мир детства, и
Якко по-прежнему уходил домой с отчаянием в сердце.
Наступил
ноябрь месяц. В продолжение нескольких дней лил сильный дождь, и морской ветер
выгонял Неву из берегов. Однажды утром Якко сидел в уединенной комнатке,
отведенной ему в адмиралтействе, и, углубившись в работу, не замечал, что
вокруг него происходило; между тем весь город был в волнении, вода возвысилась
непомерно, жители прибережных частей города перебирали свои пожитки на чердаки,
а в некоторых местах уже взбирались и на крыши; высокой гранитной набережной
еще не существовало; ныне незамечаемая прибыль воды в 1722 году была истинным
бедствием для города; Якко взглянул в окошко: адмиралтейская площадь обратилась
в море, по ней неслися лодки, бревна, крыши, гробы. Дом Зверева находился в
части города, наиболее подверженной наводнению; мысль об участи, ожидавшей это
семейство, поразила Якко; но как помочь ему, как дойти до него? Волны уже били в
верхнее звено нижних этажей! В отчаянии ломая руки, смотрел Якко на разлив Невы
и приискивал средство выйти из дома чрез окошко. В эту минуту он смотрит:
небольшой катер с переломленною мачтою несется по Неве; два матроса тщетно
стараются вытащить обломок мачты, погрузившейся в воду, или перерубить веревки;
уже катер перегнуло на одну сторону; на корме стоит человек высокого роста;
черные его волосы разметаны по плечам; одною рукою он стиснул руль, другою
ободряет потерявшихся матросов, но – еще минута, и катер должен опрокинуться.
Якко смотрит, не верит глазам своим – это сам государь!
При этом
виде молодой финн забывает всю опасность. Сильною рукою он выбивает стекольную
раму и бросается вон из окошка; в это время крепко связанный плот прибило
к стене дома; от движения плота Якко сильно ударился головою об стену и почти в
беспамятстве ухватился за скользкие бревна; в таком положении его застали
люди, находившиеся на одной из адмиралтейских лодок.
Едва
Якко пришел в чувство – первый его вопрос был о государе. "Пересел на
другой катер", – отвечали ему; тогда Якко вспомнил снова о своем
семействе, и лодка быстро повернула по направлению к дому Зверева. Подъезжая к
нему, Якко увидел, что вода выливалась уже из окошек, – во всем доме не
было и признака живого человека. Скорбь сжала сердце молодого финна; погибли
последние люди, которых он мог называть родными. Но скоро внимание его было обращено
на большой катер, который старался на веслах приблизиться к дому; смотрит, в
катере: Зверев, жена его, все домашние – катер ближе, ближе, Якко различает
всех в лицо и не видит – лишь одной Эльсы.
– А
Эльса? – вскричал он в отчаянии.
– Не
знаем! – печально отвечал ему Зверев.
Молодой
человек упал без чувств в лодку.
К вечеру
вода сбыла. Жители мало-помалу возвращались в дома, стараясь изгладить следы
наводнения, и скоро в юной, отважной столице все пришло в обыкновенный порядок.
В
спальной Зверева лежал наш Якко с распухнувшей головою и в припадке сильной
горячки. Он метался на кровати, то произносил непонятные слова, то призывал
домашних, Эльсу. Так прошли долгие дни. Наконец Якко пришел в себя, и первое
лицо, которое узнала его ослабевшая память, была Марья Егоровна; она сидела
возле кровати и с участием смотрела на больного.
– Где я?
Что со мною? – спросил Якко.
– У людей,
которые вас любят, – отвечал тихий голос.
Все
возобновилось в памяти молодого человека; он взял Марью Егоровну за руку и
крепко прижал ее к губам; Марья Егоровна опустила глазки и закраснелась.
Вошла в
комнату Федосья Кузьминишна.
– Что
сталось с Эльсой? – спросил Якко.
– А –
слава Богу! Очнулся, батюшка – ведь три недели был в забытьи, легко ли дело; ну
что твоя сестрица, – живехонька, батюшка – уехала к своим с каким-то
чухною; уже мало ли Егор Петрович хлопотал, – насилу проведали, куда она
запропастилась, на воск какой-то, что ли?
Действительно,
во время наводнения, когда водою уже наполнился двор и Егор Петрович сбирался с
домашними сесть на подъехавший с улицы адмиралтейский катер, в хлопотах забыли
об Эльсе; в это время она была в своей комнате, выходившей окнами во двор
и запертой по благоразумному распоряжению Федосьи Кузьминишны; бедная
затворница с ужасом смотрела на прибывающую ежеминутно воду: – "все
кончилось, – говорила она, – рутцы напустили на вейнелейсов море –
все должно погибнуть; нет спасения" – и с сими словами она сложила
руки, села против окошка и хладнокровно глядела, как вода уже приподнимала
крышу низкого амбара. Вдруг смотрит, на дворе является лодка, в лодке знакомое
лицо. Юссо, Юссо! – вскричала Эльса, отворив широкую форточку, – я
здесь, я здесь! спаси меня!"
И ловкий
финн приблизился к окошку, уцепился за ставни, помог Эльсе пробраться на свой
челнок, усадил ее, ударил веслами, и скоро челнок исчез из вида. Между тем,
садясь в катер, старик Зверев вспомнил об Эльсе; скорее к ней в комнату – нет
ее, бегали по всему лому, всходили на чердаки – пропала Эльса; минуты были
дороги, управляющий катером говорил, что он должен еще многим домам подать
помощь – и Егора Петровича почти силою втащили в катер.
Якко с
каждым днем оправлялся. Однажды, когда Марья Егоровна вошла к нему в комнату,
он сказал:
– Вы уже
забыли обо мне, Марья Егоровна, так редко навещаете меня.
– Когда
вы были опасны, – отвечала девушка, – я, видит Бог, не отходила от
вас; но теперь вы, слава Богу, уже начинаете выздоравливать, и мне одной с вами
оставаться неприлично.
– Нет ли
средства помочь этому горю? – сказал улыбаясь Иван Иванович.
– Какое
же? я не знаю.
– Очень
простое – быть моею женою! Что скажете вы на это, Марья Егоровна?
Марья
Егоровна проговорила обыкновенное в таких случаях: "Я от себя не
завишу", и молодой человек нежно поцеловал ее руку.
Со
стариками было переговорено; они дали свое благословение. «Но прежде свадьбы
мне остается еще одно дело, – сказал Якко Егору Петровичу, – я хочу
устроить Эльсу». – Доброе дело, – отвечал старик, – так и следует.
Через
несколько дней сани мчали молодого финна к его родимому берегу. Верст за сорок
до Иматры он уже стал спрашивать по хижинам об Эльсе, внучке старого Руси; но
жители ему отвечали, что Иматра от них далеко, далеко и что они никого там не
знают. Верст за двадцать рассказы были другие, "как не знать Эльсы, –
говорили финны, – такой знахарки у нас уже давно не бывало; все знает, что
ни спроси; заболеет ли человек, али какое животное, придешь к ней, поклонишься
– с живой руки снимет. Зато скоро счастлива будет; Юссо говорит, что непременно
на ней женится".
Быстро
мчались широкие сани по глубокому снегу, туман лежал на равнинах, зеленые ели
тихо качались над сугробами, месяц мелькал из облаков и бледными его лучами
прорезывались слои тумана – туман расседался, пропускал светлую полосу и снова
заволакивал придорожные утесы. Грустно было на душе Якко – ехал он по земле
родной, которая была уже для него чужая; иногда воображению его представлялся
Петербург со своею деятельною, просвещенною жизнью, и снова невольно взор финна
обращался на печальную картину родимого края. Недалеко от Иматры Якко заметил в
избушке, стоявшей уединенно посреди скал, необыкновенное освещение; частью
любопытство, частью какое-то невольное чувство заставили его остановиться; Якко
вышел из саней, – к избушке, смотрит в волоковое окно – там какой-то
праздник – свадьба или что-то подобное. Рассмотрев попристальнее, Якко скоро
заметил в избушке Эльсу; она в финском платье, довольно богатом, сидела на
почетном месте, все обращались с нею с величайшим уважением, потчевали ее и
кланялись. Эльса была весела и довольна и смеясь рассказывала, как рутцы напустили
на вейнелейсов море и хотели утопить ее и как она с Юссо обманула их.
Якко
задумался. «Здесь она весела, уважена всеми, говорит своим языком, она
свободна, счастлива; там она печальна, связана во всех движениях, предмет
насмешек и ненависти. Зачем я отниму у ней ее счастье в надежде другого, ей
непонятного и, может быть, несбыточного?»
В это
время Эльса встала, распрощалась с хозяевами, – почетнейшие пошли
провожать ее, – толпа прошла мимо Якко, – он видел Эльсу в двух шагах
от себя, – но промолчал и только печально смотрел вслед ей, пока она не
скрылась в тумане. Тогда Якко вошел в хижину и, отдавая хозяину кошелек с
деньгами, сказал: "Скажите Эльсе, внучке старого Руси, что Якко ей
посылает это на свадьбу". – Якко знал честность своих единоземцев и
был уверен, что кошелек дойдет по назначению. Пока хозяева удивлялись такому
несметному богатству, Якко вышел из хижины, – взглянул еще раз на родные
утесы:
–
Последняя нить порвана, – сказал он самому себе, – земля моя – мне
чужая. Прощай же, Суомия – прощай навсегда! И здравствуй, Россия, моя отчизна!
Молодой
финн закрыл глаза рукою, бросился в сани, – колокольчик зазвенел!
На
берегах Вуоксы до сих пор сохраняется предание о девушке, которую богатый барин
увез было в Петербург и которая убежала от богатства из любви к своей лачужке;
hассказывают и о том, как в старину незнакомые люди, или духи, в богатом
платье, вдруг являлись в хижинах и оставляли на столе деньги, прося их отдать
Эльсе, старой колдунье.
|


