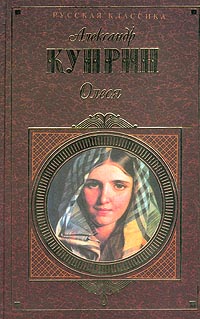
 Увеличить Увеличить |
VI
С этого дня я стал частым гостем в избушке на курьих ножках.
Каждый раз, когда я приходил, Олеся встречала меня с своим привычным сдержанным
достоинством. Но всегда, по первому невольному движению, которое она делала,
увидев меня, я замечал, что она радуется моему приходу. Старуха по-прежнему не
переставала бурчать что-то себе под нос, но явного недоброжелательства не
выражала благодаря невидимому для меня, но несомненному заступничеству внучки;
также немалое влияние в благотворном для меня смысле оказывали приносимые мною
кое-когда подарки: то теплый платок, то банка варенья, то бутылка вишневой
наливки. У нас с Олесей, точно по безмолвному обоюдному уговору, вошло в
обыкновение, что она меня провожала до Ириновского шляха, когда я уходил домой.
И всегда у нас в это время завязывался такой живой, интересный разговор, что мы
оба старались поневоле продлить дорогу, идя как можно тише безмолвными лесными
опушками. Дойдя до Ириновского шляха, я ее провожал обратно с полверсты, и
все-таки, прежде чем проститься, мы еще долго разговаривали, стоя под пахучим
навесом сосновых ветвей.
Не одна красота Олеси меня в ней очаровывала, но также и ее
цельная, самобытная, свободная натура, ее ум, одновременно ясный и окутанный
непоколебимым наследственным суеверием, детски невинный, но и не лишенный
лукавого кокетства красивой женщины. Она не уставала меня расспрашивать
подробно обо всем, что занимало и волновало ее первобытное, яркое воображение:
о странах и народах, об явлениях природы, об устройстве земли и вселенной, об
ученых людях, о больших городах… Многое ей казалось удивительным, сказочным,
неправдоподобным. Но я с самого начала нашего знакомства взял с нею такой
серьезный, искренний и простой тон, что она охотно принимала на бесконтрольную
веру все мои рассказы. Иногда, затрудняясь объяснить ей что-нибудь, слишком, по
моему мнению, непонятное для ее полудикарской головы (а иной раз и самому мне
не совсем ясное), я возражал на ее жадные вопросы: «Видишь ли… Я не сумею тебе
этого рассказать… Ты не поймешь меня».
Тогда она принималась меня умолять:
– Нет, пожалуйста, пожалуйста, я постараюсь… Вы хоть
как-нибудь скажите… хоть и непонятно…
Она принуждала меня пускаться в чудовищные сравнения, в
самые дерзкие примеры, и если я затруднялся подыскать выражение, она сама помогала
мне целым дождем нетерпеливых вопросов, вроде тех, которые мы предлагаем заике,
мучительно застрявшему на одном слове. И действительно, в конце концов ее
гибкий, подвижный ум и свежее воображение торжествовали над моим педагогическим
бессилием. Я поневоле убеждался, что для своей среды, для своего воспитания
(или, вернее сказать, отсутствия его) она обладала изумительными способностями.
Однажды я вскользь упомянул что-то про Петербург. Олеся
тотчас же заинтересовалась:
– Что такое Петербург? Местечко?
– Нет, это не местечко; это самый большой русский
город.
– Самый большой? Самый, самый, что ни на есть? И больше
его нету? – наивно пристала она ко мне.
– Ну да… Там все главное начальство живет… господа
большие… Дома там все каменные, деревянных нет.
– Уж, конечно, гораздо больше нашей Степани? –
уверенно спросила Олеся.
– О да… немножко побольше… так, раз в пятьсот. Там
такие есть дома, в которых в каждом народу живет вдвое больше, чем во всей
Степани.
– Ах, боже мой! Какие же это дома? – почти в
испуге спросила Олеся.
Мне пришлось, по обыкновению, прибегнуть к сравнению.
– Ужасные дома. В пять, в шесть, а то и семь этажей.
Видишь вот ту сосну?
– Самую большую? Вижу.
– Так вот такие высокие дома. И сверху донизу набиты
людьми. Живут эти люди в маленьких конурках, точно птицы в клетках, человек по
десяти в каждой, так что всем и воздуху-то не хватает. А другие внизу живут,
под самой землей, в сырости и холоде; случается, что солнца у себя в комнате
круглый год не видят.
– Ну, уж я б ни за что не променяла своего леса на ваш
город, – сказала Олеся, покачав головой. – Я и в Степань-то приду на
базар, так мне противно сделается. Толкаются, шумят, бранятся… И такая меня
тоска возьмет за лесом, – так бы бросила все и без оглядки побежала… Бог с
ним, с городом вашим, не стала бы я там жить никогда.
– Ну, а если твой муж будет из города? – спросил я
с легкой улыбкой.
Ее брови нахмурились, и тонкие ноздри дрогнули.
– Вот еще! – сказала она с пренебрежением. –
Никакого мне мужа не надо.
– Это ты теперь только так говоришь, Олеся. Почти все
девушки то же самое говорят и все же замуж выходят. Подожди немного:
встретишься с кем-нибудь, полюбишь – тогда не только в город, а на край
света с ним пойдешь.
– Ах, нет, нет… пожалуйста, не будем об этом, –
досадливо отмахнулась она. – Ну к чему этот разговор?.. Прошу вас, не
надо.
– Какая ты смешная, Олеся. Неужели ты думаешь, что
никогда в жизни не полюбишь мужчину? Ты – такая молодая, красивая,
сильная. Если в тебе кровь загорится, то уж тут не до зароков будет.
– Ну что ж – и полюблю! – сверкнув глазами, с
вызовом ответила Олеся. – Спрашиваться ни у кого не буду…
– Стало быть, и замуж пойдешь, – поддразнил я.
– Это вы, может быть, про церковь говорите? –
догадалась она.
– Конечно, про церковь… Священник вокруг аналоя будет
водить, дьякон запоет «Исаия ликуй», на голову тебе наденут венец…
Олеся опустила веки и со слабой улыбкой отрицательно
покачала головой.
– Нет, голубчик… Может быть, вам и не понравится, что я
скажу, а только у нас в роду никто не венчался: и мать и бабка без этого
прожили… Нам в церковь и заходить-то нельзя…
– Все из-за колдовства вашего?
– Да, из-за нашего колдовства, – со спокойной
серьезностью ответила Олеся. – Как же я посмею в церковь показаться, если
уже от самого рождения моя душа продана ему .
– Олеся… Милая… Поверь мне, что ты сама себя
обманываешь… Ведь это дико, это смешно, что ты говоришь.
На лице Олеси опять показалось уже замеченное мною однажды
странное выражение убежденной и мрачной покорности своему таинственному
предназначению.
– Нет, нет… Вы этого не можете понять, а я это
чувствую… Вот здесь, – она крепко притиснула руку к груди, – в душе
чувствую. Весь наш род проклят во веки веков. Да вы посудите сами: кто же нам
помогает, как не он ? Разве может простой человек сделать то, что я
могу? Вся наша сила от него идет.
И каждый раз наш разговор, едва коснувшись этой необычайной
темы, кончался подобным образом. Напрасно я истощал все доступные пониманию
Олеси доводы, напрасно говорил в простой форме о гипнотизме, о внушении, о
докторах-психиатрах и об индийских факирах, напрасно старался объяснить ей
физиологическим путем некоторые из ее опытов, хотя бы, например, заговаривание
крови, которое так просто достигается искусным нажатием на вену, – Олеся,
такая доверчивая ко мне во всем остальном, с упрямой настойчивостью опровергала
все мои доказательства и объяснения… «Ну, хорошо, хорошо, про заговор крови я
вам, так и быть, подарю, – говорила она, возвышая голос в увлечении
спора – а откуда же другое берется? Разве я одно только и знаю, что кровь
заговаривать? Хотите, я вам в один день всех мышей и тараканов выведу из хаты?
Хотите, я в два дня вылечу простой водой самую сильную огневицу, хоть бы все
ваши доктора от больного отказались? Хотите, я сделаю так, что вы какое-нибудь
одно слово совсем позабудете? А сны почему я разгадываю? А будущее почему
узнаю?»
Кончался этот спор всегда тем, что и я и Олеся умолкали не
без внутреннего раздражения друг против друга. Действительно, для многого из ее
черного искусства я не умел найти объяснения в своей небольшой науке. Я не знаю
и не могу сказать, обладала ли Олеся и половиной тех секретов, о которых
говорила с такой наивной верой, но то, чему я сам бывал нередко свидетелем,
вселило в меня непоколебимое убеждение, что Олесе были доступны те
бессознательные, инстинктивные, туманные, добытые случайным опытом, странные
знания, которые, опередив точную науку на целые столетия, живут, перемешавшись
со смешными и дикими поверьями, в темной, замкнутой народной массе, передаваясь
как величайшая тайна из поколения в поколение.
Несмотря на резкое разногласие в этом единственном пункте,
мы все сильнее и крепче привязывались друг к другу. О любви между нами не было
сказано еще ни слова, но быть вместе для нас уже сделалось потребностью, и
часто в молчаливые минуты, когда наши взгляды нечаянно и одновременно
встречались, я видел, как увлажнялись глаза Олеси и как билась тоненькая
голубая жилка у нее на виске…
Зато мои отношения с Ярмолой совсем испортились. Для него,
очевидно, не были тайной мои посещения избушки на курьих ножках и вечерние
прогулки с Олесей: он всегда с удивительной точностью знал все, что происходит
в его лесу. С некоторого времени я заметил, что он начинает избегать
меня. Его черные глаза следили за мною издали с упреком и неудовольствием
каждый раз, когда я собирался идти в лес, хотя порицания своего он не
высказывал ни одним словом. Наши комически серьезные занятия грамотой
прекратились. Если же я иногда вечером звал Ярмолу учиться, он только махал
рукой.
– Куда там! Пустое это дело, паныч, – говорил он с
ленивым презрением.
На охоту мы тоже перестали ходить. Всякий раз, когда я
подымал об этом разговор, у Ярмолы находился какой-нибудь предлог для отказа:
то ружье у него не исправно, то собака больна, то ему самому некогда. «Нема
часу, паныч… нужно пашню сегодня орать», – чаще всего отвечал Ярмола на
мое приглашение, в я отлично знал, что он вовсе не будет «орать пашню», а
проведет целый день около монополии в сомнительной надежде на чье-нибудь
угощение. Эта безмолвная, затаенная вражда начинала меня утомлять, и я уже
подумывал о том, чтобы отказаться от услуг Ярмолы, воспользовавшись для этого
первым подходящим предлогом… Меня останавливало только чувство жалости к его
огромной нищей семье, которой четыре рубля Ярмолова жалованья помогали не
умереть с голода.
|


