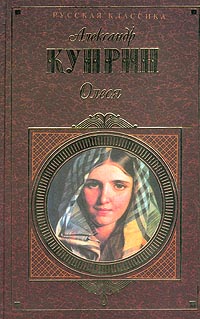
 Увеличить Увеличить |
IV
Весна наступила в этом году ранняя, дружная и – как
всегда на Полесье – неожиданная. Побежали по деревенским улицам бурливые,
коричневые, сверкающие ручейки, сердито пенясь вокруг встречных каменьев и
быстро вертя щепки и гусиный пух; в огромных лужах воды отразилось голубое небо
с плывущими по нему круглыми, точно крутящимися, белыми облаками; с крыш посыпались
частые звонкие капли. Воробьи, стаями обсыпавшие придорожные ветлы, кричали так
громко и возбужденно, что ничего нельзя было расслышать за их криком. Везде
чувствовалась радостная, торопливая тревога жизни.
Снег сошел, оставшись еще кое-где грязными рыхлыми клочками
в лощинах и тенистых перелесках. Из-под него выглянула обнаженная, мокрая,
теплая земля, отдохнувшая за зиму и теперь полная свежих соков, полная жажды
нового материнства. Над черными нивами вился легкий парок, наполнявший воздух
запахом оттаявшей земли, – тем свежим, вкрадчивым и могучим пьяным запахом
весны, который даже и в городе узнаешь среди сотен других запахов. Мне
казалось, что вместе с этим ароматом вливалась в мою душу весенняя грусть,
сладкая и нежная, исполненная беспокойных ожиданий и смутных
предчувствий, – поэтическая грусть, делающая в ваших глазах всех женщин
хорошенькими и всегда приправленная неопределенными сожалениями о прошлых
вёснах. Ночи стали теплее; в их густом влажном мраке чувствовалась незримая
спешная творческая работа природы…
В эти весенние дни образ Олеси не выходил из моей головы.
Мне нравилось, оставшись одному, лечь, зажмурить глаза, чтобы лучше
сосредоточиться, и беспрестанно вызывать в своем воображении ее то суровое, то
лукавое, то сияющее нежной улыбкой лицо, ее молодое тело, выросшее в приволье
старого бора так же стройно и так же могуче, как растут молодые елочки, ее
свежий голос, с неожиданными низкими бархатными нотками… «Во всех ее движениях,
в ее словах, – думал я, – есть что-то благородное (конечно, в лучшем
смысле этого довольно пошлого слова), какая-то врожденная изящная умеренность…»
Также привлекал меня к Олесе и некоторый ореол окружавшей ее таинственности,
суеверная репутация ведьмы, жизнь в лесной чаще среди болота и в особенности –
эта гордая уверенность в свои силы, сквозившая в немногих обращенных ко мне
словах.
Нет ничего мудреного, что, как только немного просохли
лесные тропинки, я отправился в избушку на курьих ножках. На случай если бы
понадобилось успокоить ворчливую старуху, я захватил с собою полфунта чаю и
несколько пригоршен кусков сахару.
Я застал обеих женщин дома. Старуха возилась около ярко
пылавшей печи, а Олеся пряла лен, сидя на очень высокой скамейке; когда я,
входя, стукнул дверь, она обернулась, нитка оборвалась под ее руками, и
веретено покатилось по полу.
Старуха некоторое время внимательно и сердито вглядывалась в
меня, сморщившись и заслоняя лицо ладонью от жара печки.
– Здравствуй, бабуся! – сказал я громким, бодрым
голосом. – Не узнаешь, должно быть, меня? Помнишь, я в прошлом месяце
заходил про дорогу спрашивать? Ты мне еще гадала?
– Ничего не помню, батюшка, – зашамкала старуха,
недовольно тряся головой, – ничего не помню. И что ты у нас позабыл –
никак не пойму. Что мы тебе за компания? Мы люди простые, серые… Нечего тебе у
нас делать. Лес велик, есть место, где разойтись… так-то…
Ошеломленный нелюбезным приемом, я совсем потерялся и
очутился в том глупом положении, когда не знаешь, что делать: обратить ли
грубость в шутку, или самому рассердиться, или, наконец, не сказав ни слова,
повернуться и уйти назад. Невольно я повернулся с беспомощным выражением к
Олесе. Она чуть-чуть улыбнулась с оттенком незлой насмешки, встала из-за прялки
и подошла к старухе.
– Не бойся, бабка, – сказала она
примирительно, – это не лихой человек, он нам худого не сделает. Милости
просим садиться, – прибавила она, указывая мне на лавку в переднем углу и
не обращая более внимания на воркотню старухи.
Ободренный ее вниманием, я догадался выдвинуть самое
решительное средство.
– Какая же ты сердитая, бабуся… Чуть гости на порог, а
ты сейчас и бранишься. А я было тебе гостинцу принес, – сказал я, доставая
из сумки свои свертки.
Старуха бросила быстрый взгляд на свертки, но тотчас же
отвернулась к печке.
– Никаких мне твоих гостинцев не нужно, –
проворчала она, ожесточенно разгребая кочергой уголья. – Знаем мы тоже
гостей этих. Сперва без мыла в душу лезут, а потом… Что у тебя в
кулечке-то? – вдруг обернулась она ко мне.
Я тотчас же вручил ей чай и сахар. Это подействовало на
старуху смягчающим образом, и хотя она и продолжала ворчать, но уже не в
прежнем, непримиримом тоне.
Олеся села опять за пряжу, а я поместился около нее на
низкой, короткой и очень шаткой скамеечке. Левой рукой Олеся быстро сучила
белую, мягкую, как шелк, кудель, а в правой у нее с легким жужжанием крутилось
веретено, которое она то пускала падать почти до земли, то ловко подхватывала
его и коротким движением пальцев опять заставляла вертеться. Эта работа, такая
простая на первый взгляд, но, в сущности, требующая огромного, многовекового
навыка и ловкости, так и кипела в ее руках. Невольно я обратил внимание на эти
руки: они загрубели и почернели от работы, но были невелики и такой красивой
формы, что им позавидовали бы многие благовоспитанные девицы.
– А вот вы мне тогда не сказали, что вам бабка
гадала, – произнесла Олеся. И, видя, что я опасливо обернулся назад, она
прибавила: – Ничего, ничего, она немного на ухо туга, не услышит. Она
только мой голос хорошо разбирает.
– Да, гадала. А что?
– Да так себе… Просто спрашиваю… А вы верите? –
кинула она на меня украдкой быстрый взгляд.
– Чему? Тому, что твоя бабка мне гадала, или вообще?
– Нет, вообще…
– Как сказать, вернее будет, что не верю, а все-таки
почем знать? Говорят, бывают случаи… Даже в умных книгах об них напечатано. А
вот тому, что твоя бабка говорила, так совсем не верю. Так и любая баба
деревенская сумеет поворожить.
Олеся улыбнулась.
– Да, это правда, что она теперь плохо гадает. Стара
стала, да и боится она очень. А что вам карты сказали?
– Ничего интересного не было. Я теперь и не помню. Что
обыкновенно говорят: дальняя дорога, трефовый интерес… Я и позабыл даже.
– Да, да, плохая она стала ворожка. Слова многие
позабыла от старости… Куда ж ей? Да и опасается она. Разве только деньги
увидит, так согласится.
– Чего же она боится?
– Известно чего, – начальства боится… Урядник
приедет, так завсегда грозит: «Я, говорит, тебя во всякое время могу упрятать.
Ты знаешь, говорит, что вашему брату за чародейство полагается? Ссылка в
каторжную работу, без сроку, на Соколиный остров». Как вы думаете, врет он это
или нет?
– Нет, врать он не врет; действительно за это что-то
полагается, но уже не так страшно… Ну, а ты, Олеся, умеешь гадать?
Она как будто бы немного замялась, но всего лишь на
мгновение.
– Гадаю… Только не за деньги, – добавила она
поспешно.
– Может быть, ты и мне кинешь карты?
– Нет, – тихо, но решительно ответила она, покачав
головой.
– Почему же ты не хочешь? Ну, не теперь, так
когда-нибудь после… Мне почему-то кажется, что ты мне правду скажешь.
– Нет. Не стану. Ни за что не стану.
– Ну, уж это нехорошо, Олеся. Ради первого знакомства
нельзя отказывать… Почему ты не согласна?
– Потому что я на вас уже бросала карты, в другой раз
нельзя…
– Нельзя? Отчего же? Я этого не понимаю.
– Нет, нет, нельзя… нельзя… – зашептала она с
суеверным страхом. – Судьбу нельзя два раза пытать… Не годится… Она
узнает, подслушает… Судьба не любит, когда ее спрашивают. Оттого все ворожки
несчастные.
Я хотел ответить Олесе какой-нибудь шуткой и не мог: слишком
много искреннего убеждения было в ее словах, так что даже, когда она, упомянув
про судьбу, со странной боязнью оглянулась на дверь, я невольно повторил это
движение.
– Ну, если не хочешь мне погадать, так расскажи, что у
тебя тогда вышло? – попросил я.
Олеся вдруг бросила прялку и притронулась рукой к моей руке.
– Нет… Лучше не надо, – сказала она, и ее глаза
приняли умоляюще-детское выражение. – Пожалуйста, не просите… Нехорошо вам
вышло… Не просите лучше…
Но я продолжал настаивать. Я не мог разобрать: был ли ее
отказ и темные намеки на судьбу наигранным приемом гадалки, или она
действительно сама верила в то, о чем говорила, но мне стало как-то не по себе,
почти жутко.
– Ну хорошо, я, пожалуй, скажу, – согласилась
наконец Олеся. – Только смотрите, уговор лучше денег: не сердиться, если
вам что не понравится. Вышло вам вот что: человек вы хотя и добрый, но только
слабый… Доброта ваша не хорошая, не сердечная. Слову вы своему не господин. Над
людьми любите верх брать, а сами им хотя и не хотите, но подчиняетесь. Вино
любите, а также… Ну да все равно, говорить, так уже все по порядку… До нашей
сестры больно охочи, и через это вам много в жизни будет зла… Деньгами вы не
дорожите и копить их не умеете – богатым никогда не будете… Говорить
дальше?
– Говори, говори! Все, что знаешь, говори!
– Дальше вышло, что жизнь ваша будет невеселая. Никого
вы сердцем не полюбите, потому что сердце у вас холодное, ленивое, а тем,
которые вас будут любить, вы много горя принесете. Никогда вы не женитесь, так
холостым и умрете. Радостей вам в жизни больших не будет, но будет много скуки
и тяготы… Настанет такое время, что руки сами на себя наложить захотите… Такое
у вас дело одно выйдет… Но только не посмеете, так снесете… Сильную нужду
будете терпеть, однако под конец жизни судьба ваша переменится через смерть
какого-то близкого вам человека и совсем для вас неожиданно. Только все это
будет еще через много лет, а вот в этом году… Я не знаю, уж когда
именно, – карты говорят, что очень скоро… Может быть, даже и в этом
месяце…
– Что же случится в этом году? – спросил я, когда
она опять остановилась.
– Да уж боюсь даже говорить дальше. Падает вам большая
любовь со стороны какой-то трефовой дамы. Вот только не могу догадаться,
замужняя она иди девушка, а знаю, что с темными волосами…
Я невольно бросил быстрый взгляд на голову Олеси.
– Что вы смотрите? – покраснела вдруг она,
почувствовав мой взгляд с пониманием, свойственным некоторым женщинам. –
Ну да, вроде моих, – продолжала она, машинально поправляя волосы и еще
больше краснея.
– Так ты говоришь – большая трефовая
любовь? – шутил я.
– Не смейтесь, не надо смеяться, – серьезно, почти
строго, заметила Олеся. – Я вам все только правду говорю.
– Ну хорошо, не буду, не буду. Что же дальше?
– Дальше… Ох! Нехорошо выходит этой трефовой даме, хуже
смерти. Позор она через вас большой примет, такой, что во всю жизнь забыть
нельзя, печаль долгая ей выходит… А вам в ее планете ничего дурного не выходит.
– Послушай, Олеся, а не могли ли тебя карты обмануть?
Зачем же я буду трефовой даме столько неприятностей делать? Человек я тихий,
скромный, а ты столько страхов про меня наговорила.
– Ну, уж этого я не знаю. Да и вышло-то так, что не вы
это сделаете, – не нарочно, значит, а только через вас вся эта беда
стрясется… Вот когда мои слова сбудутся, вы меня тогда вспомните.
– И все это тебе карты сказали, Олеся?
Она ответила не сразу, уклончиво и как будто бы неохотно:
– И карты… Да я и без них узнаю много, вот хоть бы по
лицу. Если, например, который человек должен скоро нехорошей смертью умереть, я
это сейчас у него на лице прочитаю, даже говорить мне с ним не нужно.
– Что же ты видишь у него в лице?
– Да я и сама не знаю. Страшно мне вдруг сделается,
точно он неживой передо мной стоит. Вот хоть у бабушки спросите, она вам
скажет, что я правду говорю. Трофим, мельник, в позапрошлом году у себя на
млине удавился, а я его только за два дня перед тем видела и тогда же сказала
бабушке: «Вот посмотри, бабуся, что Трофим на днях дурной смертью умрет». Так
оно и вышло. А на прошлые святки зашел к нам конокрад Яшка, просил бабушку
погадать. Бабушка разложила на него карты, стала ворожить. А он шутя
спрашивает: «Ты мне скажи, бабка, какой я смертью умру?» А сам смеется. Я как
поглядела на него, так и пошевельнуться не могу: вижу, сидит Яков, а лицо у
него мертвое, зеленое… Глаза закрыты, а губы черные… Потом, через неделю,
слышим, что поймали мужики Якова, когда он лошадей хотел свести… Всю ночь его
били… Злой у нас народ здесь, безжалостный… В пятки гвозди ему заколотили,
перебили кольями все ребра; а к утру из него и дух вон.
– Отчего же ты ему не сказала, что его беда ждет?
– А зачем говорить? – возразила Олеся. – Что
у судьбы положено, разве от этого убежишь? Только бы понапрасну человек свои
последние дни тревожился… Да мне и самой гадко, что я так вижу, сама себе я
противна делаюсь… Только что ж? Это ведь у меня от судьбы. Бабка моя, когда
помоложе была, тоже смерть узнавала, и моя мать тоже, и бабкина мать – это
не от нас… это в нашей крови так.
Она перестала прясть и сидела, низко опустив голову, тихо
положив руки вдоль колен. В ее неподвижно остановившихся глазах с
расширившимися зрачками отразился какой-то темный ужас, какая-то невольная
покорность таинственным силам и сверхъестественным знаниям, осенявшим ее душу.
|


