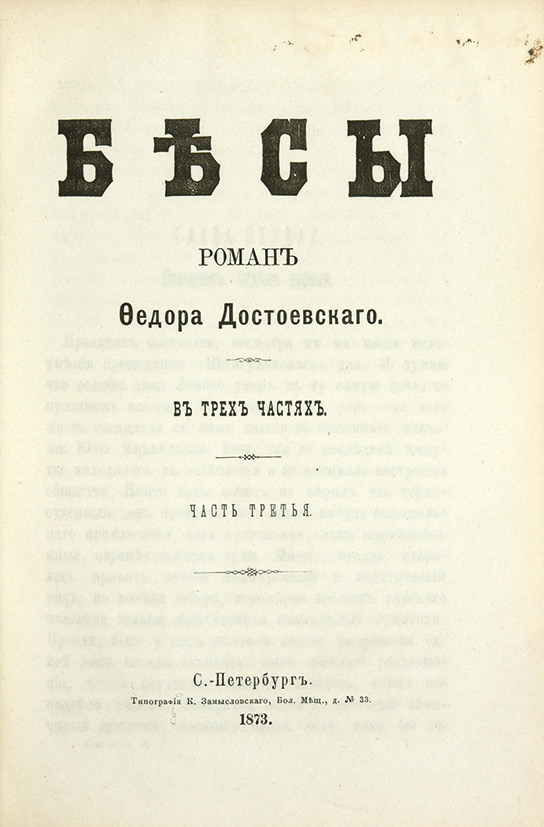
 Увеличить Увеличить |
Хоть убей, следа не видно,
Сбились мы, что делать нам?
В поле бес нас водит, видно,
Да кружит по сторонам.
Сколько их, куда их гонят,
Что так жалобно поют?
Домового ли хоронят,
Ведьму ль замуж выдают?
А. Пушкин
Тут
на горе паслось большое стадо свиней, и они просили Его, чтобы позволил им
войти в них. Он позволил им. Бесы, вышедши из человека, вошли в свиней; и
бросилось стадо с крутизны в озеро и потонуло. Пастухи, увидя случившееся,
побежали и рассказали в городе и по деревням. И вышли жители смотреть
случившееся и, пришедши к Иисусу, нашли человека, из которого вышли бесы,
сидящего у ног Иисусовых, одетого и в здравом уме, и ужаснулись. Видевшие же
рассказали им, как исцелился бесновавшийся
Евангелие
от Луки. Глава VIII, 32–36.
Часть
первая
Глава
первая
Вместо введения: несколько подробностей из биографии многочтимого Степана
Трофимовича Верховенского
I
Приступая
к описанию недавних и столь странных событий, происшедших в нашем, доселе ничем
не отличавшемся городе, я принужден, по неумению моему, начать несколько
издалека, а именно некоторыми биографическими подробностями о талантливом и
многочтимом Степане Трофимовиче Верховенском. Пусть эти подробности послужат
лишь введением к предлагаемой хронике, а самая история, которую я намерен
описывать, еще впереди.
Скажу
прямо: Степан Трофимович постоянно играл между нами некоторую особую и, так
сказать, гражданскую роль и любил эту роль до страсти, – так даже, что,
мне кажется, без нее и прожить не мог. Не то чтоб уж я его приравнивал к актеру
на театре: сохрани боже, тем более что сам его уважаю. Тут всё могло быть делом
привычки, или, лучше сказать, беспрерывной и благородной склонности, с детских
лет, к приятной мечте о красивой гражданской своей постановке. Он, например,
чрезвычайно любил свое положение «гонимого» и, так сказать, «ссыльного». В этих
обоих словечках есть своего рода классический блеск, соблазнивший его раз навсегда,
и, возвышая его потом постепенно в собственном мнении, в продолжение столь
многих лет, довел его наконец до некоторого весьма высокого и приятного для
самолюбия пьедестала. В одном сатирическом английском романе прошлого столетия
некто Гулливер, возвратясь из страны лилипутов, где люди были всего в
какие-нибудь два вершка росту, до того приучился считать себя между ними
великаном, что, и ходя по улицам Лондона, невольно кричал прохожим и экипажам,
чтоб они пред ним сворачивали и остерегались, чтоб он как-нибудь их не
раздавил, воображая, что он всё еще великан, а они маленькие. За это смеялись
над ним и бранили его, а грубые кучера даже стегали великана кнутьями; но
справедливо ли? Чего не может сделать привычка? Привычка привела почти к тому
же и Степана Трофимовича, но еще в более невинном и безобидном виде, если можно
так выразиться, потому что прекраснейший был человек.
Я
даже так думаю, что под конец его все и везде позабыли; но уже никак ведь
нельзя сказать, что и прежде совсем не знали. Бесспорно, что и он некоторое
время принадлежал к знаменитой плеяде иных прославленных деятелей нашего
прошедшего поколения, и одно время, – впрочем, всего только одну самую
маленькую минуточку, – его имя многими тогдашними торопившимися людьми
произносилось чуть не наряду с именами Чаадаева, Белинского, Грановского и
только что начинавшего тогда за границей Герцена. Но деятельность Степана
Трофимовича окончилась почти в ту же минуту, как и началась, – так
сказать, от «вихря сошедшихся обстоятельств». И что же? Не только «вихря», но
даже и «обстоятельств» совсем потом не оказалось, по крайней мере в этом
случае. Я только теперь, на днях, узнал, к величайшему моему удивлению, но зато
уже в совершенной достоверности, что Степан Трофимович проживал между нами, в
нашей губернии, не только не в ссылке, как принято было у нас думать, но даже и
под присмотром никогда не находился. Какова же после этого сила собственного
воображения! Он искренно сам верил всю свою жизнь, что в некоторых сферах его
постоянно опасаются, что шаги его беспрерывно известны и сочтены и что каждый
из трех сменившихся у нас в последние двадцать лет губернаторов, въезжая
править губернией, уже привозил с собою некоторую особую и хлопотливую о нем
мысль, внушенную ему свыше и прежде всего, при сдаче губернии. Уверь кто-нибудь
тогда честнейшего Степана Трофимовича неопровержимыми доказательствами, что ему
вовсе нечего опасаться, и он бы непременно обиделся. А между тем это был ведь
человек умнейший и даровитейший, человек, так сказать, даже науки, хотя,
впрочем, в науке… ну, одним словом, в науке он сделал не так много и, кажется,
совсем ничего. Но ведь с людьми науки у нас на Руси это сплошь да рядом случается.
Он
воротился из-за границы и блеснул в виде лектора на кафедре университета уже в
самом конце сороковых годов. Успел же прочесть всего только несколько лекций,
и, кажется, об аравитянах; успел тоже защитить блестящую диссертацию о
возникавшем было гражданском и ганзеатическом значении немецкого городка Ганау,
в эпоху между 1413 и 1428 годами, а вместе с тем и о тех особенных и неясных
причинах, почему значение это вовсе не состоялось. Диссертация эта ловко и
больно уколола тогдашних славянофилов и разом доставила ему между ними
многочисленных и разъяренных врагов. Потом – впрочем, уже после потери кафедры –
он успел напечатать (так сказать, в виде отместки и чтоб указать, кого они
потеряли) в ежемесячном и прогрессивном журнале, переводившем из Диккенса и
проповедовавшем Жорж Занда, начало одного глубочайшего исследования – кажется,
о причинах необычайного нравственного благородства каких-то рыцарей в какую-то
эпоху или что-то в этом роде. По крайней мере проводилась какая-то высшая и
необыкновенно благородная мысль. Говорили потом, что продолжение исследования
было поспешно запрещено и что даже прогрессивный журнал пострадал за напечатанную
первую половину. Очень могло это быть, потому что чего тогда не было? Но в
данном случае вероятнее, что ничего не было и что автор сам поленился докончить
исследование. Прекратил же он свои лекции об аравитянах потому, что перехвачено
было как-то и кем-то (очевидно, из ретроградных врагов его) письмо к кому-то с
изложением каких-то «обстоятельств», вследствие чего кто-то потребовал от него
каких-то объяснений. Не знаю, верно ли, но утверждали еще, что в Петербурге
было отыскано в то же самое время какое-то громадное, противоестественное и
противогосударственное общество, человек в тринадцать, и чуть не потрясшее
здание. Говорили, что будто бы они собирались переводить самого Фурье. Как
нарочно, в то же самое время в Москве схвачена была и поэма Степана
Трофимовича, написанная им еще лет шесть до сего, в Берлине, в самой первой его
молодости, и ходившая по рукам, в списках, между двумя любителями и у одного студента.
Эта поэма лежит теперь и у меня в столе; я получил ее, не далее как прошлого
года, в собственноручном, весьма недавнем списке, от самого Степана Трофимовича,
с его надписью и в великолепном красном сафьянном переплете. Впрочем, она не
без поэзии и даже не без некоторого таланта; странная, но тогда (то есть,
вернее, в тридцатых годах) в этом роде часто пописывали. Рассказать же сюжет
затрудняюсь, ибо, по правде, ничего в нем не понимаю. Это какая-то аллегория, в
лирико-драматической форме и напоминающая вторую часть «Фауста». Сцена
открывается хором женщин, потом хором мужчин, потом каких-то сил, и в конце
всего хором душ, еще не живших, но которым очень бы хотелось пожить. Все эти
хоры поют о чем-то очень неопределенном, большею частию о чьем-то проклятии, но
с оттенком высшего юмора. Но сцена вдруг переменяется, и наступает какой-то
«Праздник жизни», на котором поют даже насекомые, является черепаха с какими-то
латинскими сакраментальными словами, и даже, если припомню, пропел о чем-то
один минерал, то есть предмет уже вовсе неодушевленный. Вообще же все поют
беспрерывно, а если разговаривают, то как-то неопределенно бранятся, но
опять-таки с оттенком высшего значения. Наконец, сцена опять переменяется, и
является дикое место, а между утесами бродит один цивилизованный молодой
человек, который срывает и сосет какие-то травы, и на вопрос феи: зачем он
сосет эти травы? – ответствует, что он, чувствуя в себе избыток жизни,
ищет забвения и находит его в соке этих трав; но что главное желание его –
поскорее потерять ум (желание, может быть, и излишнее). Затем вдруг въезжает
неописанной красоты юноша на черном коне, и за ним следует ужасное множество
всех народов. Юноша изображает собою смерть, а все народы ее жаждут. И,
наконец, уже в самой последней сцене вдруг появляется Вавилонская башня, и
какие-то атлеты ее наконец достраивают с песней новой надежды, и когда уже
достраивают до самого верху, то обладатель, положим хоть Олимпа, убегает в
комическом виде, а догадавшееся человечество, завладев его местом, тотчас же
начинает новую жизнь с новым проникновением вещей. Ну, вот эту-то поэму и нашли
тогда опасною. Я в прошлом году предлагал Степану Трофимовичу ее напечатать, за
совершенною ее, в наше время, невинностью, но он отклонил предложение с видимым
неудовольствием. Мнение о совершенной невинности ему не понравилось, и я даже
приписываю тому некоторую холодность его со мной, продолжавшуюся целых два
месяца. И что же? Вдруг, и почти тогда же, как я предлагал напечатать
здесь, – печатают нашу поэму там, то есть за границей, в одном из
революционных сборников, и совершенно без ведома Степана Трофимовича. Он был
сначала испуган, бросился к губернатору и написал благороднейшее оправдательное
письмо в Петербург, читал мне его два раза, но не отправил, не зная, кому
адресовать. Одним словом, волновался целый месяц; но я убежден, что в
таинственных изгибах своего сердца был польщен необыкновенно. Он чуть не спал с
экземпляром доставленного ему сборника, а днем прятал его под тюфяк и даже не
пускал женщину перестилать постель, и хоть ждал каждый день откуда-то какой-то
телеграммы, но смотрел свысока. Телеграммы никакой не пришло. Тогда же он и со
мной примирился, что и свидетельствует о чрезвычайной доброте его тихого и
незлопамятного сердца.
II
Я
ведь не утверждаю, что он совсем нисколько не пострадал; я лишь убедился теперь
вполне, что он мог бы продолжать о своих аравитянах сколько ему угодно, дав
только нужные объяснения. Но он тогда самбициозничал и с особенною поспешностью
распорядился уверить себя раз навсегда, что карьера его разбита на всю его
жизнь «вихрем обстоятельств». А если говорить всю правду, то настоящею причиной
перемены карьеры было еще прежнее и снова возобновившееся деликатнейшее
предложение ему от Варвары Петровны Ставрогиной, супруги генерал-лейтенанта и
значительной богачки, принять на себя воспитание и всё умственное развитие ее
единственного сына, в качестве высшего педагога и друга, не говоря уже о блистательном
вознаграждении. Предложение это было сделано ему в первый раз еще в Берлине, и
именно в то самое время, когда он в первый раз овдовел. Первою супругой его
была одна легкомысленная девица из нашей губернии, на которой он женился в
самой первой и еще безрассудной своей молодости, и, кажется, вынес с этою,
привлекательною впрочем, особой много горя, за недостатком средств к ее
содержанию и, сверх того, по другим, отчасти уже деликатным причинам. Она
скончалась в Париже, быв с ним последние три года в разлуке и оставив ему
пятилетнего сына, «плод первой, радостной и еще не омраченной любви», как
вырвалось раз при мне у грустившего Степана Трофимовича. Птенца еще с самого
начала переслали в Россию, где он и воспитывался всё время на руках каких-то
отдаленных теток, где-то в глуши. Степан Трофимович отклонил тогдашнее
предложение Варвары Петровны и быстро женился опять, даже раньше году, на одной
неразговорчивой берлинской немочке и, главное, без всякой особенной надобности.
Но, кроме этой, оказались и другие причины отказа от места воспитателя: его соблазняла
гремевшая в то время слава одного незабвенного профессора, и он, в свою
очередь, полетел на кафедру, к которой готовился, чтобы испробовать и свои
орлиные крылья. И вот теперь, уже с опаленными крыльями, он, естественно,
вспомнил о предложении, которое еще и прежде колебало его решение. Внезапная же
смерть и второй супруги, не прожившей с ним и году, устроила всё окончательно.
Скажу прямо: всё разрешилось пламенным участием и драгоценною, так сказать классическою,
дружбой к нему Варвары Петровны, если только так можно о дружбе выразиться. Он
бросился в объятия этой дружбы, и дело закрепилось с лишком на двадцать лет. Я
употребил выражение «бросился в объятия», но сохрани бог кого-нибудь подумать о
чем-нибудь лишнем и праздном; эти объятия надо разуметь в одном лишь самом
высоконравственном смысле. Самая тонкая и самая деликатнейшая связь соединила
эти два столь замечательные существа навеки.
Место
воспитателя было принято еще и потому, что и именьице, оставшееся после первой
супруги Степана Трофимовича, – очень маленькое, – приходилось
совершенно рядом со Скворешниками, великолепным подгородным имением Ставрогиных
в нашей губернии. К тому же всегда возможно было, в тиши кабинета и уже не
отвлекаясь огромностью университетских занятий, посвятить себя делу науки и
обогатить отечественную словесность глубочайшими исследованиями. Исследований
не оказалось; но зато оказалось возможным простоять всю остальную жизнь, более
двадцати лет, так сказать, «воплощенной укоризной» пред отчизной, по выражению
народного поэта:
Воплощенной укоризною
………………………………………
Ты стоял перед
отчизною,
Либерал-идеалист.
Но
то лицо, о котором выразился народный поэт, может быть, и имело право всю жизнь
позировать в этом смысле, если бы того захотело, хотя это и скучно. Наш же
Степан Трофимович, по правде, был только подражателем сравнительно с подобными
лицами, да и стоять уставал и частенько полеживал на боку. Но хотя и на боку, а
воплощенность укоризны сохранялась и в лежачем положении, – надо отдать
справедливость, тем более что для губернии было и того достаточно. Посмотрели
бы вы на него у нас в клубе, когда он садился за карты. Весь вид его говорил:
«Карты! Я сажусь с вами в ералаш! Разве это совместно? Кто ж отвечает за это?
Кто разбил мою деятельность и обратил ее в ералаш? Э, погибай Россия!» – и он
осанисто козырял с червей.
А
по правде, ужасно любил сразиться в карточки, за что, и особенно в последнее
время, имел частые и неприятные стычки с Варварой Петровной, тем более что постоянно
проигрывал. Но об этом после. Замечу лишь, что это был человек даже совестливый
(то есть иногда), а потому часто грустил. В продолжение всей двадцатилетней
дружбы с Варварой Петровной он раза по три и по четыре в год регулярно впадал в
так называемую между нами «гражданскую скорбь», то есть просто в хандру, но
словечко это нравилось многоуважаемой Варваре Петровне. Впоследствии, кроме
гражданской скорби, он стал впадать и в шампанское; но чуткая Варвара Петровна
всю жизнь охраняла его от всех тривиальных наклонностей. Да он и нуждался в
няньке, потому что становился иногда очень странен: в средине самой возвышенной
скорби он вдруг зачинал смеяться самым простонароднейшим образом. Находили
минуты, что даже о самом себе начинал выражаться в юмористическом смысле. Но
ничего так не боялась Варвара Петровна, как юмористического смысла. Это была
женщина-классик, женщина-меценатка, действовавшая в видах одних лишь высших
соображений. Капитально было двадцатилетнее влияние этой высшей дамы на ее
бедного друга. О ней надо бы поговорить особенно, что я и сделаю.
III
Есть
дружбы странные: оба друга один другого почти съесть хотят, всю жизнь так
живут, а между тем расстаться не могут. Расстаться даже никак нельзя:
раскапризившийся и разорвавший связь друг первый же заболеет и, пожалуй, умрет,
если это случится. Я положительно знаю, что Степан Трофимович несколько раз, и
иногда после самых интимных излияний глаз на глаз с Варварой Петровной, по
уходе ее вдруг вскакивал с дивана и начинал колотить кулаками в стену.
Происходило
это без малейшей аллегории, так даже, что однажды отбил от стены штукатурку.
Может быть, спросят: как мог я узнать такую тонкую подробность? А что, если я
сам бывал свидетелем? Что, если сам Степан Трофимович неоднократно рыдал на
моем плече, в ярких красках рисуя предо мной всю свою подноготную? (И уж
чего-чего при этом не говорил!) Но вот что случалось почти всегда после этих
рыданий: назавтра он уже готов был распять самого себя за неблагодарность;
поспешно призывал меня к себе или прибегал ко мне сам, единственно чтобы
возвестить мне, что Варвара Петровна «ангел чести и деликатности, а он
совершенно противоположное». Он не только ко мне прибегал, но неоднократно
описывал всё это ей самой в красноречивейших письмах и признавался ей, за своею
полною подписью, что не далее как, например, вчера он рассказывал постороннему
лицу, что она держит его из тщеславия, завидует его учености и талантам;
ненавидит его и боится только выказать свою ненависть явно, в страхе, чтоб он
не ушел от нее и тем не повредил ее литературной репутации; что вследствие
этого он себя презирает и решился погибнуть насильственною смертью, а от нее
ждет последнего слова, которое всё решит, и пр., и пр., всё в этом роде. Можно
представить после этого, до какой истерики доходили иногда нервные взрывы этого
невиннейшего из всех пятидесятилетних младенцев! Я сам однажды читал одно из
таковых его писем, после какой-то между ними ссоры, из-за ничтожной причины, но
ядовитой по выполнению. Я ужаснулся и умолял не посылать письма.
– Нельзя…
честнее… долг… я умру, если не признаюсь ей во всем, во всем! – отвечал он
чуть не в горячке и послал-таки письмо.
В
том-то и была разница между ними, что Варвара Петровна никогда бы не послала
такого письма. Правда, он писать любил без памяти, писал к ней, даже живя в
одном с нею доме, а в истерических случаях и по два письма в день. Я знаю
наверное, что она всегда внимательнейшим образом эти письма прочитывала, даже в
случае и двух писем в день, и, прочитав, складывала в особый ящичек, помеченные
и рассортированные; кроме того, слагала их в сердце своем. Затем, выдержав
своего друга весь день без ответа, встречалась с ним как ни в чем не бывало,
будто ровно ничего вчера особенного не случилось. Мало-помалу она так его
вымуштровала, что он уже и сам не смел напоминать о вчерашнем, а только
заглядывал ей некоторое время в глаза. Но она ничего не забывала, а он забывал
иногда слишком уж скоро и, ободренный ее же спокойствием, нередко в тот же день
смеялся и школьничал за шампанским, если приходили приятели. С каким, должно
быть, ядом она смотрела на него в те минуты, а он ничего-то не примечал! Разве
через неделю, через месяц, или даже через полгода, в какую-нибудь особую
минуту, нечаянно вспомнив какое-нибудь выражение из такого письма, а затем и
всё письмо, со всеми обстоятельствами, он вдруг сгорал от стыда и до того,
бывало, мучился, что заболевал своими припадками холерины. Эти особенные с ним
припадки, вроде холерины, бывали в некоторых случаях обыкновенным исходом его
нервных потрясений и представляли собою некоторый любопытный в своем роде курьез
в его телосложении.
Действительно,
Варвара Петровна наверно и весьма часто его ненавидела; но он одного только в
ней не приметил до самого конца, того, что стал наконец для нее ее сыном, ее
созданием, даже, можно сказать, ее изобретением, стал плотью от плоти ее, и что
она держит и содержит его вовсе не из одной только «зависти к его талантам». И
как, должно быть, она была оскорбляема такими предположениями! В ней таилась
какая-то нестерпимая любовь к нему, среди беспрерывной ненависти, ревности и
презрения. Она охраняла его от каждой пылинки, нянчилась с ним двадцать два
года, не спала бы целых ночей от заботы, если бы дело коснулось до его репутации
поэта, ученого, гражданского деятеля. Она его выдумала и в свою выдумку сама же
первая и уверовала. Он был нечто вроде какой-то ее мечты… Но она требовала от
него за это действительно многого, иногда даже рабства. Злопамятна же была до
невероятности. Кстати уж расскажу два анекдота.
IV
Однажды,
еще при первых слухах об освобождении крестьян, когда вся Россия вдруг взликовала
и готовилась вся возродиться, посетил Варвару Петровну один проезжий петербургский
барон, человек с самыми высокими связями и стоявший весьма близко у дела.
Варвара Петровна чрезвычайно ценила подобные посещения, потому что связи ее в
обществе высшем, по смерти ее супруга, всё более и более ослабевали, под конец
и совсем прекратились. Барон просидел у нее час и кушал чай. Никого других не
было, но Степана Трофимовича Варвара Петровна пригласила и выставила. Барон о
нем кое-что даже слышал и прежде или сделал вид, что слышал, но за чаем мало к
нему обращался. Разумеется, Степан Трофимович в грязь себя ударить не мог, да и
манеры его были самые изящные. Хотя происхождения он был, кажется, невысокого,
но случилось так, что воспитан был с самого малолетства в одном знатном доме в
Москве и, стало быть, прилично; по-французски говорил, как парижанин. Таким
образом, барон с первого взгляда должен был понять, какими людьми Варвара
Петровна окружает себя, хотя бы и в губернском уединении. Вышло, однако, не
так. Когда барон подтвердил положительно совершенную достоверность только что
разнесшихся тогда первых слухов о великой реформе, Степан Трофимович вдруг не
вытерпел и крикнул ура! и даже сделал рукой какой-то жест, изображавший
восторг. Крикнул он негромко и даже изящно; даже, может быть, восторг был
преднамеренный, а жест нарочно заучен пред зеркалом, за полчаса пред чаем; но,
должно быть, у него что-нибудь тут не вышло, так что барон позволил себе чуть-чуть
улыбнуться, хотя тотчас же необыкновенно вежливо ввернул фразу о всеобщем и
надлежащем умилении всех русских сердец ввиду великого события. Затем скоро
уехал и, уезжая, не забыл протянуть и Степану Трофимовичу два пальца.
Возвратясь в гостиную, Варвара Петровна сначала молчала минуты три, что-то как
бы отыскивая на столе; но вдруг обернулась к Степану Трофимовичу и, бледная, со
сверкающими глазами, процедила шепотом:
– Я
вам этого никогда не забуду!
На
другой день она встретилась со своим другом как ни в чем не бывало; о
случившемся никогда не поминала. Но тринадцать лет спустя, в одну трагическую
минуту, припомнила и попрекнула его, и так же точно побледнела, как и
тринадцать лет назад, когда в первый раз попрекала. Только два раза во всю свою
жизнь сказала она ему: «Я вам этого никогда не забуду!» Случай с бароном был
уже второй случай; но и первый случай в свою очередь так характерен и, кажется,
так много означал в судьбе Степана Трофимовича, что я решаюсь и о нем
упомянуть.
Это
было в пятьдесят пятом году, весной, в мае месяце, именно после того как в
Скворешниках получилось известие о кончине генерал-лейтенанта Ставрогина,
старца легкомысленного, скончавшегося от расстройства в желудке, по дороге в
Крым, куда он спешил по назначению в действующую армию. Варвара Петровна
осталась вдовой и облеклась в полный траур. Правда, не могла она горевать очень
много, ибо в последние четыре года жила с мужем в совершенной разлуке, по
несходству характеров, и производила ему пенсион. (У самого генерал-лейтенанта
было всего только полтораста душ и жалованье, кроме того знатность и связи; а
всё богатство и Скворешники принадлежали Варваре Петровне, единственной дочери
одного очень богатого откупщика.) Тем не менее она была потрясена
неожиданностию известия и удалилась в полное уединение. Разумеется, Степан
Трофимович находился при ней безотлучно.
Май
был в полном расцвете; вечера стояли удивительные. Зацвела черемуха. Оба друга
сходились каждый вечер в саду и просиживали до ночи в беседке, изливая друг
пред другом свои чувства и мысли. Минуты бывали поэтические. Варвара Петровна
под впечатлением перемены в судьбе своей говорила больше обыкновенного. Она как
бы льнула к сердцу своего друга, и так продолжалось несколько вечеров. Одна
странная мысль вдруг осенила Степана Трофимовича: «Не рассчитывает ли неутешная
вдова на него и не ждет ли, в конце траурного года, предложения с его стороны?»
Мысль циническая; но ведь возвышенность организации даже иногда способствует
наклонности к циническим мыслям, уже по одной только многосторонности развития.
Он стал вникать и нашел, что походило на то. Он задумался: «Состояние огромное,
правда, но…» Действительно, Варвара Петровна не совсем походила на красавицу:
это была высокая, желтая, костлявая женщина, с чрезмерно длинным лицом, напоминавшим
что-то лошадиное. Всё более и более колебался Степан Трофимович, мучился
сомнениями, даже всплакнул раза два от нерешимости (плакал он довольно часто).
По вечерам же, то есть в беседке, лицо его как-то невольно стало выражать нечто
капризное и насмешливое, нечто кокетливое и в то же время высокомерное. Это
как-то нечаянно, невольно делается, и даже чем благороднее человек, тем оно и
заметнее. Бог знает как тут судить, но вероятнее, что ничего и не начиналось в
сердце Варвары Петровны такого, что могло бы оправдать вполне подозрения
Степана Трофимовича. Да и не променяла бы она своего имени Ставрогиной на его
имя, хотя бы и столь славное. Может быть, была всего только одна лишь
женственная игра с ее стороны, проявление бессознательной женской потребности,
столь натуральной в иных чрезвычайных женских случаях. Впрочем, не поручусь;
неисследима глубина женского сердца даже и до сегодня! Но продолжаю.
Надо
думать, что она скоро про себя разгадала странное выражение лица своего друга;
она была чутка и приглядчива, он же слишком иногда невинен. Но вечера шли
по-прежнему, и разговоры были так же поэтичны и интересны. И вот однажды, с
наступлением ночи, после самого оживленного и поэтического разговора, они
дружески расстались, горячо пожав друг другу руки у крыльца флигеля, в котором
квартировал Степан Трофимович. Каждое лето он перебирался в этот флигелек,
стоявший почти в саду, из огромного барского дома Скворешников. Только что он
вошел к себе и, в хлопотливом раздумье, взяв сигару и еще не успев ее закурить,
остановился, усталый, неподвижно пред раскрытым окном, приглядываясь к легким,
как пух, белым облачкам, скользившим вокруг ясного месяца, как вдруг легкий
шорох заставил его вздрогнуть и обернуться. Пред ним опять стояла Варвара
Петровна, которую он оставил всего только четыре минуты назад. Желтое лицо ее
почти посинело, губы были сжаты и вздрагивали по краям. Секунд десять полных
смотрела она ему в глаза молча, твердым, неумолимым взглядом и вдруг прошептала
скороговоркой:
– Я
никогда вам этого не забуду!
Когда
Степан Трофимович, уже десять лет спустя, передавал мне эту грустную повесть
шепотом, заперев сначала двери, то клялся мне, что он до того остолбенел тогда
на месте, что не слышал и не видел, как Варвара Петровна исчезла. Так как она
никогда ни разу потом не намекала ему на происшедшее и всё пошло как ни в чем
не бывало, то он всю жизнь наклонен был к мысли, что всё это была одна
галлюцинация пред болезнию, тем более что в ту же ночь он и вправду заболел на
целых две недели, что, кстати, прекратило и свидания в беседке.
Но,
несмотря на мечту о галлюцинации, он каждый день, всю свою жизнь, как бы ждал
продолжения и, так сказать, развязки этого события. Он не верил, что оно так и
кончилось! А если так, то странно же он должен был иногда поглядывать на своего
друга.
V
Она
сама сочинила ему даже костюм, в котором он и проходил всю свою жизнь. Костюм
был изящен и характерен: длиннополый черный сюртук, почти доверху застегнутый,
но щегольски сидевший; мягкая шляпа (летом соломенная) с широкими полями; галстук
белый, батистовый, с большим узлом и висячими концами; трость с серебряным
набалдашником, при этом волосы до плеч. Он был темно-рус, и волосы его только в
последнее время начали немного седеть. Усы и бороду он брил. Говорят, в
молодости он был чрезвычайно красив собой. Но, по-моему, и в старости был
необыкновенно внушителен. Да и какая же старость в пятьдесят три года? Но, по
некоторому гражданскому кокетству, он не только не молодился, но как бы и
щеголял солидностию лет своих, и в костюме своем, высокий, сухощавый, с
волосами до плеч, походил как бы на патриарха или, еще вернее, на портрет поэта
Кукольника, литографированный в тридцатых годах при каком-то издании, особенно
когда сидел летом в саду, на лавке, под кустом расцветшей сирени, опершись обеими
руками на трость, с раскрытою книгой подле и поэтически задумавшись над закатом
солнца. Насчет книг замечу, что под конец он стал как-то удаляться от чтения.
Впрочем, это уж под самый конец. Газеты и журналы, выписываемые Варварой
Петровной во множестве, он читал постоянно. Успехами русской литературы тоже
постоянно интересовался, хотя и нисколько не теряя своего достоинства. Увлекся
было когда-то изучением высшей современной политики наших внутренних и внешних
дел, но вскоре, махнув рукой, оставил предприятие. Бывало и то: возьмет с собою
в сад Токевиля, а в кармашке несет спрятанного Поль де Кока. Но, впрочем, это
пустяки.
Замечу
в скобках и о портрете Кукольника: попалась эта картинка Варваре Петровне в первый
раз, когда она находилась, еще девочкой, в благородном пансионе в Москве. Она
тотчас же влюбилась в портрет, по обыкновению всех девочек в пансионах,
влюбляющихся во что ни попало, а вместе и в своих учителей, преимущественно
чистописания и рисования. Но любопытны в этом не свойства девочки, а то, что
даже и в пятьдесят лет Варвара Петровна сохраняла эту картинку в числе самых
интимных своих драгоценностей, так что и Степану Трофимовичу, может быть,
только поэтому сочинила несколько похожий на изображенный на картинке костюм.
Но и это, конечно, мелочь.
В
первые годы, или, точнее, в первую половину пребывания у Варвары Петровны,
Степан Трофимович всё еще помышлял о каком-то сочинении и каждый день серьезно
собирался его писать. Но во вторую половину он, должно быть, и зады позабыл.
Всё чаще и чаще он говаривал нам: «Кажется, готов к труду, материалы собраны, и
вот не работается! Ничего не делается!» – и опускал голову в унынии. Без
сомнения, это-то и должно было придать ему еще больше величия в наших глазах,
как страдальцу науки; но самому ему хотелось чего-то другого. «Забыли меня,
никому я не нужен!» – вырывалось у него не раз. Эта усиленная хандра особенно
овладела им в самом конце пятидесятых годов. Варвара Петровна поняла наконец,
что дело серьезное. Да и не могла она перенести мысли о том, что друг ее забыт
и не нужен. Чтобы развлечь его, а вместе для подновления славы, она свозила его
тогда в Москву, где у ней было несколько изящных литературных и ученых
знакомств; но оказалось, что и Москва неудовлетворительна.
Тогда
было время особенное; наступило что-то новое, очень уж непохожее на прежнюю
тишину, и что-то очень уж странное, но везде ощущаемое, даже в Скворешниках.
Доходили разные слухи. Факты были вообще известны более или менее, но очевидно
было, что кроме фактов явились и какие-то сопровождавшие их идеи, и, главное, в
чрезмерном количестве. А это-то и смущало: никак невозможно было примениться и
в точности узнать, что именно означали эти идеи? Варвара Петровна, вследствие
женского устройства натуры своей, непременно хотела подразумевать в них секрет.
Она принялась было сама читать газеты и журналы, заграничные запрещенные
издания и даже начавшиеся тогда прокламации (всё это ей доставлялось); но у ней
только голова закружилась. Принялась она писать письма: отвечали ей мало, и чем
далее, тем непонятнее. Степан Трофимович торжественно приглашен был объяснить
ей «все эти идеи» раз навсегда; но объяснениями его она осталась положительно
недовольна. Взгляд Степана Трофимовича на всеобщее движение был в высшей
степени высокомерный; у него всё сводилось на то, что он сам забыт и никому не
нужен. Наконец и о нем вспомянули, сначала в заграничных изданиях, как о
ссыльном страдальце, и потом тотчас же в Петербурге, как о бывшей звезде в
известном созвездии; даже сравнивали его почему-то с Радищевым. Затем кто-то
напечатал, что он уже умер, и обещал его некролог. Степан Трофимович мигом
воскрес и сильно приосанился. Всё высокомерие его взгляда на современников
разом соскочило, и в нем загорелась мечта: примкнуть к движению и показать свои
силы. Варвара Петровна тотчас же вновь и во всё уверовала и ужасно засуетилась.
Решено было ехать в Петербург без малейшего отлагательства, разузнать всё на
деле, вникнуть лично и, если возможно, войти в новую деятельность всецело и
нераздельно. Между прочим, она объявила, что готова основать свой журнал и
посвятить ему отныне всю свою жизнь. Увидав, что дошло даже до этого, Степан
Трофимович стал еще высокомернее, в дороге же начал относиться к Варваре
Петровне почти покровительственно, что она тотчас же сложила в сердце своем.
Впрочем, у ней была и другая весьма важная причина к поездке, именно
возобновление высших связей. Надо было по возможности напомнить о себе в свете,
по крайней мере попытаться. Гласным же предлогом к путешествию было свидание с
единственным сыном, оканчивавшим тогда курс наук в петербургском лицее.
VI
Они
съездили и прожили в Петербурге почти весь зимний сезон. Всё, однако, к
великому посту лопнуло, как радужный мыльный пузырь. Мечты разлетелись, а
сумбур не только не выяснился, но стал еще отвратительнее. Во-первых, высшие
связи почти не удались, разве в самом микроскопическом виде и с унизительными
натяжками. Оскорбленная Варвара Петровна бросилась было всецело в «новые идеи»
и открыла у себя вечера. Она позвала литераторов, и к ней их тотчас же привели
во множестве. Потом уже приходили и сами, без приглашения; один приводил
другого. Никогда еще она не видывала таких литераторов. Они были тщеславны до
невозможности, но совершенно открыто, как бы тем исполняя обязанность. Иные
(хотя и далеко не все) являлись даже пьяные, но как бы сознавая в этом
особенную, вчера только открытую красоту. Все они чем-то гордились до
странности. На всех лицах было написано, что они сейчас только открыли какой-то
чрезвычайно важный секрет. Они бранились, вменяя себе это в честь. Довольно
трудно было узнать, что именно они написали; но тут были критики, романисты,
драматурги, сатирики, обличители. Степан Трофимович проник даже в самый высший
их круг, туда, откуда управляли движением. До управляющих было до невероятности
высоко, но его они встретили радушно, хотя, конечно, никто из них ничего о нем
не знал и не слыхивал кроме того, что он «представляет идею». Он до того
маневрировал около них, что и их зазвал раза два в салон Варвары Петровны,
несмотря на всё их олимпийство. Эти были очень серьезны и очень вежливы;
держали себя хорошо; остальные видимо их боялись; но очевидно было, что им некогда.
Явились и две-три прежние литературные знаменитости, случившиеся тогда в
Петербурге и с которыми Варвара Петровна давно уже поддерживала самые изящные
отношения. Но, к удивлению ее, эти действительные и уже несомненные
знаменитости были тише воды, ниже травы, а иные из них просто льнули ко всему
этому новому сброду и позорно у него заискивали. Сначала Степану Трофимовичу
повезло; за него ухватились и стали его выставлять на публичных литературных
собраниях. Когда он вышел в первый раз на эстраду, в одном из публичных
литературных чтений, в числе читавших, раздались неистовые рукоплескания, не
умолкавшие минут пять. Он со слезами вспоминал об этом девять лет спустя, –
впрочем, скорее по художественности своей натуры, чем из благодарности.
«Клянусь же вам и пари держу, – говорил он мне сам (но только мне и по
секрету), – что никто-то изо всей этой публики знать не знал о мне ровнешенько
ничего!» Признание замечательное: стало быть, был же в нем острый ум, если он
тогда же, на эстраде, мог так ясно понять свое положение, несмотря на всё свое
упоение; и, стало быть, не было в нем острого ума, если он даже девять лет
спустя не мог вспомнить о том без ощущения обиды. Его заставили подписаться под
двумя или тремя коллективными протестами (против чего – он и сам не знал); он
подписался. Варвару Петровну тоже заставили подписаться под каким-то
«безобразным поступком», и та подписалась. Впрочем, большинство этих новых
людей хоть и посещали Варвару Петровну, но считали себя почему-то обязанными
смотреть на нее с презрением и с нескрываемою насмешкой. Степан Трофимович
намекал мне потом, в горькие минуты, что она с тех-то пор ему и позавидовала.
Она, конечно, понимала, что ей нельзя водиться с этими людьми, но все-таки
принимала их с жадностию, со всем женским истерическим нетерпением и, главное,
всё чего-то ждала. На вечерах она говорила мало, хотя и могла бы говорить; но
она больше вслушивалась. Говорили об уничтожении цензуры и буквы ъ, о
заменении русских букв латинскими, о вчерашней ссылке такого-то, о каком-то
скандале в Пассаже, о полезности раздробления России по народностям с вольною
федеративною связью, об уничтожении армии и флота, о восстановлении Польши по
Днепр, о крестьянской реформе и прокламациях, об уничтожении наследства,
семейства, детей и священников, о правах женщины, о доме Краевского, которого
никто и никогда не мог простить господину Краевскому, и пр., и пр. Ясно было,
что в этом сброде новых людей много мошенников, но несомненно было, что много и
честных, весьма даже привлекательных лиц, несмотря на некоторые все-таки
удивительные оттенки. Честные были гораздо непонятнее бесчестных и грубых; но
неизвестно было, кто у кого в руках. Когда Варвара Петровна объявила свою мысль
об издании журнала, то к ней хлынуло еще больше народу, но тотчас же посыпались
в глаза обвинения, что она капиталистка и эксплуатирует труд. Бесцеремонность
обвинений равнялась только их неожиданности. Престарелый генерал Иван Иванович
Дроздов, прежний друг и сослуживец покойного генерала Ставрогина, человек достойнейший
(но в своем роде) и которого все мы здесь знаем, до крайности строптивый и раздражительный,
ужасно много евший и ужасно боявшийся атеизма, заспорил на одном из вечеров
Варвары Петровны с одним знаменитым юношей. Тот ему первым словом: «Вы, стало
быть, генерал, если так говорите», то есть в том смысле, что уже хуже генерала
он и брани не мог найти. Иван Иванович вспылил чрезвычайно: «Да, сударь, я
генерал, и генерал-лейтенант, и служил государю моему, а ты, сударь, мальчишка
и безбожник!» Произошел скандал непозволительный. На другой день случай был
обличен в печати, и начала собираться коллективная подписка против
«безобразного поступка» Варвары Петровны, не захотевшей тотчас же прогнать
генерала. В иллюстрированном журнале явилась карикатура, в которой язвительно
скопировали Варвару Петровну, генерала и Степана Трофимовича на одной картинке,
в виде трех ретроградных друзей; к картинке приложены были и стихи, написанные
народным поэтом единственно для этого случая. Замечу от себя, что действительно
у многих особ в генеральских чинах есть привычка смешно говорить: «Я служил
государю моему…», то есть точно у них не тот же государь, как и у нас, простых
государевых подданных, а особенный, ихний.
Оставаться
долее в Петербурге было, разумеется, невозможно, тем более что и Степана
Трофимовича постигло окончательное fiasco.[1]
Он не выдержал и стал заявлять о правах искусства, а над ним стали еще громче
смеяться. На последнем чтении своем он задумал подействовать гражданским
красноречием, воображая тронуть сердца и рассчитывая на почтение к своему
«изгнанию». Он бесспорно согласился в бесполезности и комичности слова
«отечество»; согласился и с мыслию о вреде религии, но громко и твердо заявил,
что сапоги ниже Пушкина, и даже гораздо. Его безжалостно освистали, так что он
тут же, публично, не сойдя с эстрады, расплакался. Варвара Петровна привезла
его домой едва живого. «On m’a traité comme un vieux bonnet de coton!»[2] – лепетал он
бессмысленно. Она ходила за ним всю ночь, давала ему лавровишневых капель и до
рассвета повторяла ему: «Вы еще полезны; вы еще явитесь; вас оценят… в другом
месте».
На
другой же день, рано утром, явились к Варваре Петровне пять литераторов, из них
трое совсем незнакомых, которых она никогда и не видывала. Со строгим видом они
объявили ей, что рассмотрели дело о ее журнале и принесли по этому делу
решение. Варвара Петровна решительно никогда и никому не поручала рассматривать
и решать что-нибудь о ее журнале. Решение состояло в том, чтоб она, основав
журнал, тотчас же передала его им вместе с капиталами, на правах свободной
ассоциации; сама же чтоб уезжала в Скворешники, не забыв захватить с собою
Степана Трофимовича, «который устарел». Из деликатности они соглашались
признавать за нею права собственности и высылать ей ежегодно одну шестую
чистого барыша. Всего трогательнее было то, что из этих пяти человек наверное
четверо не имели при этом никакой стяжательной цели, а хлопотали только во имя
«общего дела».
«Мы
выехали как одурелые, – рассказывал Степан Трофимович, – я ничего не
мог сообразить и, помню, все лепетал под стук вагона:
Век и Век и Лев
Камбек,
Лев Камбек и Век и
Век…
и
черт знает что еще такое, вплоть до самой Москвы. Только в Москве опомнился –
как будто и в самом деле что-нибудь другое в ней мог найти? О друзья мои! –
иногда восклицал он нам во вдохновении, – вы представить не можете, какая
грусть и злость охватывает всю вашу душу, когда великую идею, вами давно уже и
свято чтимую, подхватят неумелые и вытащат к таким же дуракам, как и сами, на
улицу, и вы вдруг встречаете ее уже на толкучем, неузнаваемую, в грязи,
поставленную нелепо, углом, без пропорции, без гармонии, игрушкой у глупых ребят!
Нет! В наше время было не так, и мы не к тому стремились. Нет, нет, совсем не к
тому. Я не узнаю ничего… Наше время настанет опять и опять направит на твердый
путь всё шатающееся, теперешнее. Иначе что же будет?..»
VII
Тотчас
же по возвращении из Петербурга Варвара Петровна отправила друга своего за границу:
«отдохнуть»; да и надо было им расстаться на время, она это чувствовала. Степан
Трофимович поехал с восторгом. «Там я воскресну! – восклицал он. –
Там наконец примусь за науку!» Но с первых же писем из Берлина он затянул свою
всегдашнюю ноту. «Сердце разбито, – писал он Варваре Петровне, – не
могу забыть ничего! Здесь, в Берлине, всё напомнило мне мое старое, прошлое,
первые восторги и первые муки. Где она? Где теперь они обе? Где вы, два ангела,
которых я никогда не стоил? Где сын мой, возлюбленный сын мой? Где, наконец, я,
я сам, прежний я, стальной по силе и непоколебимый, как утес, когда теперь
какой-нибудь Andrejeff, un православный шут с бородой, peut briser mon
existence en deux[3]»
и т. д., и т. д. Что касается до сына Степана Трофимовича, то он
видел его всего два раза в своей жизни, в первый раз, когда тот родился, и во
второй – недавно в Петербурге, где молодой человек готовился поступить в университет.
Всю же свою жизнь мальчик, как уже и сказано было, воспитывался у теток в О –
ской губернии (на иждивении Варвары Петровны), за семьсот верст от Скворешников.
Что же касается до Andrejeff, то есть Андреева, то это был просто-запросто наш
здешний купец, лавочник, большой чудак, археолог-самоучка, страстный собиратель
русских древностей, иногда пикировавшийся со Степаном Трофимовичем познаниями,
а главное, в направлении. Этот почтенный купец, с седою бородой и в больших
серебряных очках, не доплатил Степану Трофимовичу четырехсот рублей за
купленные в его именьице (рядом со Скворешниками) несколько десятин лесу на
сруб. Хотя Варвара Петровна и роскошно наделила своего друга средствами,
отправляя его в Берлин, но на эти четыреста рублей Степан Трофимович, пред
поездкой, особо рассчитывал, вероятно на секретные свои расходы, и чуть не
заплакал, когда Andrejeff попросил повременить один месяц, имея, впрочем, и
право на такую отсрочку, ибо первые взносы денег произвел все вперед чуть не за
полгода, по особенной тогдашней нужде Степана Трофимовича. Варвара Петровна с
жадностию прочла это первое письмо и, подчеркнув карандашом восклицание: «Где
вы обе?», пометила числом и заперла в шкатулку. Он, конечно, вспоминал о своих
обеих покойницах женах. Во втором полученном из Берлина письме песня
варьировалась: «Работаю по двенадцати часов в сутки („хоть бы по
одиннадцати“, – проворчала Варвара Петровна), роюсь в библиотеках,
сверяюсь, выписываю, бегаю; был у профессоров. Возобновил знакомство с превосходным
семейством Дундасовых. Какая прелесть Надежда Николаевна даже до сих пор! Вам
кланяется. Молодой ее муж и все три племянника в Берлине. По вечерам с молодежью
беседуем до рассвета, и у нас чуть не афинские вечера, но единственно по
тонкости и изяществу; всё благородное: много музыки, испанские мотивы, мечты
всечеловеческого обновления, идея вечной красоты, Сикстинская Мадонна, свет с
прорезами тьмы, но и в солнце пятна! О друг мой, благородный, верный друг! Я
сердцем с вами и ваш, с одной всегда, en tout pays[4] и хотя бы даже dans le
pays de Makar et de ses veaux,[5]
о котором, помните, так часто мы, трепеща, говорили в Петербурге пред отъездом.
Вспоминаю с улыбкой. Переехав границу, ощутил себя безопасным, ощущение
странное, новое, впервые после столь долгих лет…» и т. д., и т. д.
«Ну,
всё вздор! – решила Варвара Петровна, складывая и это письмо. – Коль
до рассвета афинские вечера, так не сидит же по двенадцати часов за книгами.
Спьяну, что ль, написал? Эта Дундасова как смеет мне посылать поклоны? Впрочем,
пусть его погуляет…»
Фраза
«dans le pays de Makar et de ses veaux» означала: «куда Макар телят не гонял».
Степан Трофимович нарочно глупейшим образом переводил иногда русские пословицы
и коренные поговорки на французский язык, без сомнения умея и понять и
перевести лучше; но это он делывал из особого рода шику и находил его
остроумным.
Но
погулял он немного, четырех месяцев не выдержал и примчался в Скворешники. Последние
письма его состояли из одних лишь излияний самой чувствительной любви к своему
отсутствующему другу и буквально были смочены слезами разлуки. Есть натуры,
чрезвычайно приживающиеся к дому, точно комнатные собачки. Свидание друзей было
восторженное. Через два дня всё пошло по-старому и даже скучнее старого. «Друг
мой, – говорил мне Степан Трофимович через две недели, под величайшим
секретом, – друг мой, я открыл ужасную для меня… новость: je suis un
простой приживальщик, et rien de plusl Mais r-r-rien de plus!»[6]
VIII
Затем
у нас наступило затишье и тянулось почти сплошь все эти девять лет.
Истерические взрывы и рыдания на моем плече, продолжавшиеся регулярно,
нисколько не мешали нашему благоденствию. Удивляюсь, как Степан Трофимович не
растолстел за это время. Покраснел лишь немного его нос и прибавилось
благодушия. Мало-помалу около него утвердился кружок приятелей, впрочем
постоянно небольшой. Варвара Петровна хоть и мало касалась кружка, но все мы
признавали ее нашею патронессой. После петербургского урока она поселилась в
нашем городе окончательно; зимой жила в городском своем доме, а летом в
подгородном своем имении. Никогда она не имела столько значения и влияния, как
в последние семь лет, в нашем губернском обществе, то есть вплоть до назначения
к нам нашего теперешнего губернатора. Прежний губернатор наш, незабвенный и
мягкий Иван Осипович, приходился ей близким родственником и был когда-то ею
облагодетельствован. Супруга его трепетала при одной мысли не угодить Варваре
Петровне, а поклонение губернского общества дошло до того, что напоминало даже
нечто греховное. Было, стало быть, хорошо и Степану Трофимовичу. Он был членом
клуба, осанисто проигрывал и заслужил почет, хотя многие смотрели на него
только как на «ученого». Впоследствии, когда Варвара Петровна позволила ему
жить в другом доме, нам стало еще свободнее. Мы собирались у него раза по два в
неделю; бывало весело, особенно когда он не жалел шампанского. Вино забиралось
в лавке того же Андреева. Расплачивалась по счету Варвара Петровна каждые полгода,
и день расплаты почти всегда бывал днем холерины.
Стариннейшим
членом кружка был Липутин, губернский чиновник, человек уже немолодой, большой
либерал и в городе слывший атеистом. Женат он был во второй раз на молоденькой
и хорошенькой, взял за ней приданое и, кроме того, имел трех подросших дочерей.
Всю семью держал в страхе божием и взаперти, был чрезмерно скуп и службой
скопил себе домик и капитал. Человек был беспокойный, притом в маленьком чине;
в городе его мало уважали, а в высшем круге не принимали. К тому же он был
явный и не раз уже наказанный сплетник, и наказанный больно, раз одним
офицером, а в другой раз почтенным отцом семейства, помещиком. Но мы любили его
острый ум, любознательность, его особенную злую веселость. Варвара Петровна не
любила его, но он всегда как-то умел к ней подделаться.
Не
любила она и Шатова, всего только в последний год ставшего членом кружка. Шатов
был прежде студентом и был исключен после одной студентской истории из
университета; в детстве же был учеником Степана Трофимовича, а родился
крепостным Варвары Петровны, от покойного камердинера ее Павла Федорова, и был
ею облагодетельствован. Не любила она его за гордость и неблагодарность и никак
не могла простить ему, что он по изгнании из университета не приехал к ней
тотчас же; напротив, даже на тогдашнее нарочное письмо ее к нему ничего не
ответил и предпочел закабалиться к какому-то цивилизованному купцу учить детей.
Вместе с семьей этого купца он выехал за границу, скорее в качестве дядьки, чем
гувернера; но уж очень хотелось ему тогда за границу. При детях находилась еще
и гувернантка, бойкая русская барышня, поступившая в дом тоже пред самым
выездом и принятая более за дешевизну. Месяца через два купец ее выгнал «за
вольные мысли». Поплелся за нею и Шатов и вскорости обвенчался с нею в Женеве.
Прожили они вдвоем недели с три, а потом расстались, как вольные и ничем не
связанные люди; конечно, тоже и по бедности. Долго потом скитался он один по
Европе, жил бог знает чем; говорят, чистил на улицах сапоги и в каком-то порте
был носильщиком. Наконец, с год тому назад вернулся к нам в родное гнездо и
поселился со старухой теткой, которую и схоронил через месяц. С сестрой своею
Дашей, тоже воспитанницей Варвары Петровны, жившею у ней фавориткой на самой
благородной ноге, он имел самые редкие и отдаленные сношения. Между нами был
постоянно угрюм и неразговорчив; но изредка, когда затрогивали его убеждения,
раздражался болезненно и был очень невоздержан на язык. «Шатова надо сначала
связать, а потом уж с ним рассуждать», – шутил иногда Степан Трофимович;
но он любил его. За границей Шатов радикально изменил некоторые из прежних
социалистических своих убеждений и перескочил в противоположную крайность. Это
было одно из тех идеальных русских существ, которых вдруг поразит какая-нибудь
сильная идея и тут же разом точно придавит их собою, иногда даже навеки.
Справиться с нею они никогда не в силах, а уверуют страстно, и вот вся жизнь их
проходит потом как бы в последних корчах под свалившимся на них и наполовину
совсем уже раздавившим их камнем. Наружностью Шатов вполне соответствовал своим
убеждениям: он был неуклюж, белокур, космат, низкого роста, с широкими плечами,
толстыми губами, с очень густыми, нависшими белобрысыми бровями, с нахмуренным
лбом, с неприветливым, упорно потупленным и как бы чего-то стыдящимся взглядом.
На волосах его вечно оставался один такой вихор, который ни за что не хотел
пригладиться и стоял торчком. Лет ему было двадцать семь или двадцать восемь.
«Я не удивляюсь более, что жена от него сбежала», – отнеслась Варвара
Петровна однажды, пристально к нему приглядевшись. Старался он одеваться
чистенько, несмотря на чрезвычайную свою бедность. К Варваре Петровне опять не
обратился за помощию, а пробивался чем бог пошлет; занимался и у купцов. Раз
сидел в лавке, потом совсем было уехал на пароходе с товаром, приказчичьим
помощником, но заболел пред самою отправкой. Трудно представить себе, какую
нищету способен он был переносить, даже и не думая о ней вовсе. Варвара
Петровна после его болезни переслала ему секретно и анонимно сто рублей. Он
разузнал, однако же, секрет, подумал, деньги принял и пришел к Варваре Петровне
поблагодарить. Та с жаром приняла его, но он и тут постыдно обманул ее
ожидания: просидел всего пять минут, молча, тупо уставившись в землю и глупо
улыбаясь, и вдруг, не дослушав ее и на самом интересном месте разговора, встал,
поклонился как-то боком, косолапо, застыдился в прах, кстати уж задел и грохнул
об пол ее дорогой наборный рабочий столик, разбил его и вышел, едва живой от
позора. Липутин очень укорял его потом за то, что он не отвергнул тогда с
презрением эти сто рублей, как от бывшей его деспотки помещицы, и не только
принял, а еще благодарить потащился. Жил он уединенно, на краю города, и не
любил, если кто-нибудь даже из нас заходил к нему. На вечера к Степану
Трофимовичу являлся постоянно и брал у него читать газеты и книги.
Являлся
на вечера и еще один молодой человек, некто Виргинский, здешний чиновник, имевший
некоторое сходство с Шатовым, хотя, по-видимому, и совершенно противоположный
ему во всех отношениях; но это тоже был «семьянин». Жалкий и чрезвычайно тихий
молодой человек, впрочем лет уже тридцати, с значительным образованием, но
больше самоучка. Он был беден, женат, служил и содержал тетку и сестру своей
жены. Супруга его да и все дамы были самых последних убеждений, но всё это
выходило у них несколько грубовато, именно – тут была «идея, попавшая на
улицу», как выразился когда-то Степан Трофимович по другому поводу. Они всё
брали из книжек и, по первому даже слуху из столичных прогрессивных уголков
наших, готовы были выбросить за окно всё что угодно, лишь бы только советовали
выбрасывать. Madame Виргинская занималась у нас в городе повивальною профессией;
в девицах она долго жила в Петербурге. Сам Виргинский был человек редкой
чистоты сердца, и редко я встречал более честный душевный огонь. «Я никогда,
никогда не отстану от этих светлых надежд», – говаривал он мне с сияющими
глазами. О «светлых надеждах» он говорил всегда тихо, с сладостию, полушепотом,
как бы секретно. Он был довольно высокого роста, но чрезвычайно тонок и узок в
плечах, с необыкновенно жиденькими, рыжеватого оттенка волосиками. Все
высокомерные насмешки Степана Трофимовича над некоторыми из его мнений он
принимал кротко, возражал же ему иногда очень серьезно и во многом ставил его в
тупик. Степан Трофимович обращался с ним ласково, да и вообще ко всем нам
относился отечески.
– Все
вы из «недосиженных», – шутливо замечал он Виргинскому, – все
подобные вам, хотя в вас, Виргинский, я и не замечал той огра-ни-чен-ности,
какую встречал в Петербурге chez ces séminaristes,[7] но все-таки вы
«недосиженные». Шатову очень хотелось бы высидеться, но и он недосиженный.
– А
я? – спрашивал Липутин.
– А
вы просто золотая средина, которая везде уживется… по-своему.
Липутин
обижался.
Рассказывали
про Виргинского, и, к сожалению, весьма достоверно, что супруга его, не пробыв
с ним и году в законном браке, вдруг объявила ему, что он отставлен и что она
предпочитает Лебядкина. Этот Лебядкин, какой-то заезжий, оказался потом лицом
весьма подозрительным и вовсе даже не был отставным штабс-капитаном, как сам
титуловал себя. Он только умел крутить усы, пить и болтать самый неловкий
вздор, какой только можно вообразить себе. Этот человек пренеделикатно тотчас
же к ним переехал, обрадовавшись чужому хлебу, ел и спал у них и стал, наконец,
третировать хозяина свысока. Уверяли, что Виргинский, при объявлении ему женой
отставки, сказал ей: «Друг мой, до сих пор я только любил тебя, теперь уважаю»,
но вряд ли в самом деле произнесено было такое древнеримское изречение;
напротив, говорят, навзрыд плакал. Однажды, недели две после отставки, все они,
всем «семейством», отправились за город, в рощу, кушать чай вместе с знакомыми.
Виргинский был как-то лихорадочно-весело настроен и участвовал в танцах; но
вдруг и без всякой предварительной ссоры схватил гиганта Лебядкина,
канканировавшего соло, обеими руками за волосы, нагнул и начал таскать его с визгами,
криками и слезами. Гигант до того струсил, что даже не защищался и всё время,
как его таскали, почти не прерывал молчания; но после таски обиделся со всем
пылом благородного человека. Виргинский всю ночь на коленях умолял жену о
прощении; но прощения не вымолил, потому что все-таки не согласился пойти
извиниться пред Лебядкиным; кроме того, был обличен в скудости убеждений и в
глупости; последнее потому, что, объясняясь с женщиной, стоял на коленях.
Штабс-капитан вскоре скрылся и явился опять в нашем городе только в самое последнее
время, с своею сестрой и с новыми целями; но о нем впереди. Не мудрено, что
бедный «семьянин» отводил у нас душу и нуждался в нашем обществе. О домашних
делах своих он никогда, впрочем, у нас не высказывался. Однажды только,
возвращаясь со мною от Степана Трофимовича, заговорил было отдаленно о своем
положении, но тут же, схватив меня за руку, пламенно воскликнул:
– Это
ничего; это только частный случай; это нисколько, нисколько не помешает «общему
делу»!
Являлись
к нам в кружок и случайные гости; ходил жидок Лямшин, ходил капитан Картузов.
Бывал некоторое время один любознательный старичок, но помер. Привел было
Липутин ссыльного ксендза Слоньцевского, и некоторое время его принимали по
принципу, но потом и принимать не стали.
IX
Одно
время в городе передавали о нас, что кружок наш рассадник вольнодумства,
разврата и безбожия; да и всегда крепился этот слух. А между тем у нас была
одна самая невинная, милая, вполне русская веселенькая либеральная болтовня.
«Высший либерализм» и «высший либерал», то есть либерал без всякой цели,
возможны только в одной России. Степану Трофимовичу, как и всякому остроумному
человеку, необходим был слушатель, и, кроме того, необходимо было сознание о
том, что он исполняет высший долг пропаганды идей. А наконец, надобно же было с
кем-нибудь выпить шампанского и обменяться за вином известного сорта
веселенькими мыслями о России и «русском духе», о боге вообще и о «русском
боге» в особенности; повторить в сотый раз всем известные и всеми натверженные
русские скандалезные анекдотцы. Не прочь мы были и от городских сплетен, причем
доходили иногда до строгих высоконравственных приговоров. Впадали и в
общечеловеческое, строго рассуждали о будущей судьбе Европы и человечества;
докторально предсказывали, что Франция после цезаризма разом ниспадет на
степень второстепенного государства, и совершенно были уверены, что это ужасно
скоро и легко может сделаться. Папе давным-давно предсказали мы роль простого
митрополита в объединенной Италии и были совершенно убеждены, что весь этот
тысячелетний вопрос, в наш век гуманности, промышленности и железных дорог,
одно только плевое дело. Но ведь «высший русский либерализм» иначе и не
относится к делу. Степан Трофимович говаривал иногда об искусстве, и весьма
хорошо, но несколько отвлеченно. Вспоминал иногда о друзьях своей
молодости, – всё о лицах, намеченных в истории нашего развития, –
вспоминал с умилением и благоговением, но несколько как бы с завистью. Если уж
очень становилось скучно, то жидок Лямшин (маленький почтамтский чиновник),
мастер на фортепиано, садился играть, а в антрактах представлял свинью, грозу,
роды с первым криком ребенка и пр., и пр.; для того только и приглашался. Если
уж очень подпивали, – а это случалось, хотя и не часто, – то
приходили в восторг, и даже раз хором, под аккомпанемент Лямшина, пропели
«Марсельезу», только не знаю, хорошо ли вышло. Великий день девятнадцатого
февраля мы встретили восторженно и задолго еще начали осушать в честь его
тосты. Это было еще давно-давно, тогда еще не было ни Шатова, ни Виргинского, и
Степан Трофимович еще жил в одном доме с Варварой Петровной. За несколько
времени до великого дня Степан Трофимович повадился было бормотать про себя
известные, хотя несколько неестественные стихи, должно быть сочиненные
каким-нибудь прежним либеральным помещиком:
Идут мужики и несут
топоры,
Что-то страшное
будет.
Кажется,
что-то в этом роде, буквально не помню. Варвара Петровна раз подслушала и
крикнула ему: «Вздор, вздор!» – и вышла во гневе. Липутин, при этом
случившийся, язвительно заметил Степану Трофимовичу:
– А
жаль, если господам помещикам бывшие их крепостные и в самом деле нанесут на радостях
некоторую неприятность.
И
он черкнул указательным пальцем вокруг своей шеи.
– Cher
ami,[8] –
благодушно заметил ему Степан Трофимович, – поверьте, что это (он
повторил жест вокруг шеи) нисколько не принесет пользы ни нашим помещикам, ни
всем нам вообще. Мы и без голов ничего не сумеем устроить, несмотря на то что
наши головы всего более и мешают нам понимать.
Замечу,
что у нас многие полагали, что в день манифеста будет нечто необычайное, в том
роде, как предсказывал Липутин, и всё ведь так называемые знатоки народа и
государства. Кажется, и Степан Трофимович разделял эти мысли, и до того даже,
что почти накануне великого дня стал вдруг проситься у Варвары Петровны за
границу; одним словом, стал беспокоиться. Но прошел великий день, прошло и еще
некоторое время, и высокомерная улыбка появилась опять на устах Степана
Трофимовича. Он высказал пред нами несколько замечательных мыслей о характере
русского человека вообще и русского мужичка в особенности.
– Мы,
как торопливые люди, слишком поспешили с нашими мужичками, – заключил он
свой ряд замечательных мыслей, – мы их ввели в моду, и целый отдел
литературы, несколько лет сряду, носился с ними как с новооткрытою драгоценностью.
Мы надевали лавровые венки на вшивые головы. Русская деревня, за всю тысячу
лет, дала нам лишь одного комаринского. Замечательный русский поэт, не лишенный
притом остроумия, увидев в первый раз на сцене великую Рашель, воскликнул в
восторге: «Не променяю Рашель на мужика!» Я готов пойти дальше: я и всех
русских мужичков отдам в обмен за одну Рашель. Пора взглянуть трезвее и не
смешивать нашего родного сиволапого дегтя с bouquet de l’impératrice.[9]
Липутин
тотчас же согласился, но заметил, что покривить душой и похвалить мужичков
все-таки было тогда необходимо для направления; что даже дамы высшего общества
заливались слезами, читая «Антона Горемыку», а некоторые из них так даже из
Парижа написали в Россию своим управляющим, чтоб от сей поры обращаться с
крестьянами как можно гуманнее.
Случилось,
и как нарочно сейчас после слухов об Антоне Петрове, что и в нашей губернии, и
всего-то в пятнадцати верстах от Скворешников, произошло некоторое
недоразумение, так что сгоряча послали команду. В этот раз Степан Трофимович до
того взволновался, что даже и нас напугал. Он кричал в клубе, что войска надо
больше, чтобы призвали из другого уезда по телеграфу; бегал к губернатору и
уверял его, что он тут ни при чем; просил, чтобы не замешали его как-нибудь, по
старой памяти, в дело, и предлагал немедленно написать о его заявлении в Петербург,
кому следует. Хорошо, что всё это скоро прошло и разрешилось ничем; но только я
подивился тогда на Степана Трофимовича.
Года
через три, как известно, заговорили о национальности и зародилось «общественное
мнение». Степан Трофимович очень смеялся.
– Друзья
мои, – учил он нас, – наша национальность, если и в самом деле
«зародилась», как они там теперь уверяют в газетах, – то сидит еще в
школе, в немецкой какой-нибудь петершуле, за немецкою книжкой и твердит свой
вечный немецкий урок, а немец-учитель ставит ее на колени, когда понадобится.
За учителя-немца хвалю; но вероятнее всего, что ничего не случилось и ничего
такого не зародилось, а идет всё как прежде шло, то есть под покровительством
божиим. По-моему, и довольно бы для России, pour notre sainte Russie.[10] Притом же
все эти всеславянства и национальности – всё это слишком старо, чтобы быть
новым. Национальность, если хотите, никогда и не являлась у нас иначе как в
виде клубной барской затеи, и вдобавок еще московской. Я, разумеется, не про
Игорево время говорю. И, наконец, всё от праздности. У нас всё от праздности, и
доброе и хорошее. Всё от нашей барской, милой, образованной, прихотливой праздности!
Я тридцать тысяч лет про это твержу. Мы своим трудом жить не умеем. И что они
там развозились теперь с каким-то «зародившимся» у нас общественным
мнением, – так вдруг, ни с того ни с сего, с неба соскочило? Неужто не
понимают, что для приобретения мнения первее всего надобен труд, собственный
труд, собственный почин в деле, собственная практика! Даром никогда ничего не
достанется. Будем трудиться, будем и свое мнение иметь. А так как мы никогда не
будем трудиться, то и мнение иметь за нас будут те, кто вместо нас до сих пор
работал, то есть всё та же Европа, все те же немцы – двухсотлетние учителя
наши. К тому же Россия есть слишком великое недоразумение, чтобы нам одним его
разрешить, без немцев и без труда. Вот уже двадцать лет, как я бью в набат и
зову к труду! Я отдал жизнь на этот призыв и, безумец, веровал! Теперь уже не
верую, но звоню и буду звонить до конца, до могилы; буду дергать веревку, пока
не зазвонят к моей панихиде!
Увы!
мы только поддакивали. Мы аплодировали учителю нашему, да с каким еще жаром! А
что, господа, не раздается ли и теперь, подчас сплошь да рядом, такого же
«милого», «умного», «либерального» старого русского вздора?
В
бога учитель наш веровал. «Не понимаю, почему меня все здесь выставляют безбожником? –
говаривал он иногда, – я в бога верую, mais distinguons,[11] я верую, как в существо,
себя лишь во мне сознающее. Не могу же я веровать, как моя Настасья (служанка)
или как какой-нибудь барин, верующий „на “всякий случай”, – или как наш
милый Шатов, – впрочем, нет, Шатов не в счет, Шатов верует насильно, как
московский славянофил. Что же касается до христианства, то, при всем моем
искреннем к нему уважении, я – не христианин. Я скорее древний язычник, как
великий Гете или как древний грек. И одно уже то, что христианство не поняло
женщину, – что так великолепно развила Жорж Занд в одном из своих
гениальных романов. Насчет же поклонений, постов и всего прочего, то не
понимаю, кому какое до меня дело? Как бы ни хлопотали здесь наши доносчики, а
иезуитом я быть не желаю. В сорок седьмом году Белинский, будучи за границей,
послал к Гоголю известное свое письмо и в нем горячо укорял того, что тот
верует “„в какого-то бога”. Entre nous soit dit,[12] ничего не могу
вообразить себе комичнее того мгновения, когда Гоголь (тогдашний Гоголь!)
прочел это выражение и… всё письмо! Но, откинув смешное, и так как я все-таки с
сущностию дела согласен, то скажу и укажу: вот были люди! Сумели же они любить
свой народ, сумели же пострадать за него, сумели же пожертвовать для него всем
и сумели же в то же время не сходиться с ним, когда надо, не потворствовать ему
в известных понятиях. Не мог же в самом деле Белинский искать спасения в
постном масле или в редьке с горохом!..»
Но
тут вступался Шатов.
– Никогда
эти ваши люди не любили народа, не страдали за него и ничем для него не пожертвовали,
как бы ни воображали это сами, себе в утеху! – угрюмо проворчал он,
потупившись и нетерпеливо повернувшись на стуле.
– Это
они-то не любили народа! – завопил Степан Трофимович. – О, как они
любили Россию!
– Ни
России, ни народа! – завопил и Шатов, сверкая глазами. – Нельзя
любить то, чего не знаешь, а они ничего в русском народе не смыслили! Все они,
и вы вместе с ними, просмотрели русский народ сквозь пальцы, а Белинский
особенно; уж из того самого письма его к Гоголю это видно. Белинский, точь-в-точь
как Крылова Любопытный, не приметил слона в кунсткамере, а всё внимание свое
устремил на французских социальных букашек; так и покончил на них. А ведь он
еще, пожалуй, всех вас умнее был! Вы мало того что просмотрели народ, – вы
с омерзительным презрением к нему относились, уж по тому одному, что под
народом вы воображали себе один только французский народ, да и то одних
парижан, и стыдились, что русский народ не таков. И это голая правда! А у кого
нет народа, у того нет и бога! Знайте наверно, что все те, которые перестают
понимать свой народ и теряют с ним свои связи, тотчас же, по мере того, теряют
и веру отеческую, становятся или атеистами, или равнодушными. Верно говорю! Это
факт, который оправдается. Вот почему и вы все и мы все теперь – или гнусные
атеисты, или равнодушная, развратная дрянь, и ничего больше! И вы тоже, Степан
Трофимович, я вас нисколько не исключаю, даже на ваш счет и говорил, знайте
это!
Обыкновенно,
проговорив подобный монолог (а с ним это часто случалось), Шатов схватывал свой
картуз и бросался к дверям, в полной уверенности, что уж теперь всё кончено и
что он совершенно и навеки порвал свои дружеские отношения к Степану
Трофимовичу. Но тот всегда успевал остановить его вовремя.
– А
не помириться ль нам, Шатов, после всех этих милых словечек? – говаривал
он, благодушно протягивая ему с кресел руку.
Неуклюжий,
но стыдливый Шатов нежностей не любил. Снаружи человек был грубый, но про себя,
кажется, деликатнейший. Хоть и терял часто меру, но первый страдал от того сам.
Проворчав что-нибудь под нос на призывные слова Степана Трофимовича и
потоптавшись, как медведь, на месте, он вдруг неожиданно ухмылялся, откладывал
свой картуз и садился на прежний стул, упорно смотря в землю. Разумеется,
приносилось вино, и Степан Трофимович провозглашал какой-нибудь подходящий
тост, например хоть в память которого-нибудь из прошедших деятелей.
|


