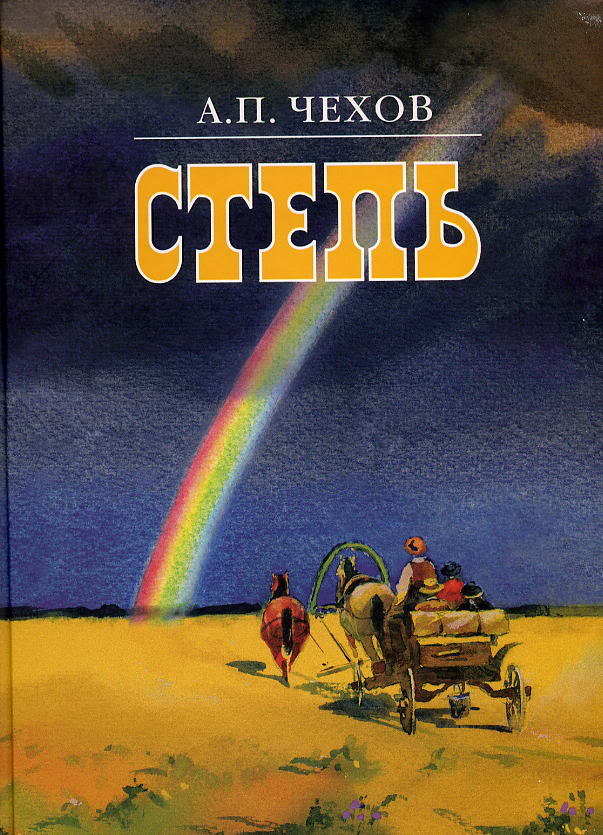
 Увеличить Увеличить |
V
Обоз
расположился в стороне от деревни на берегу реки. Солнце жгло по-вчерашнему, воздух
был неподвижен и уныл. На берегу стояло несколько верб, но тень от них падала
не на землю, а на воду, где пропадала даром, в тени же под возами было душно и
скучно. Вода, голубая оттого, что в ней отражалось небо, страстно манила, к
себе.
Подводчик
Степка, на которого только теперь обратил внимание Егорушка, восемнадцатилетний
мальчик-хохол, в длинной рубахе, без пояса и в широких шароварах навыпуск,
болтавшихся при ходьбе как флаги, быстро разделся, сбежал вниз по крутому
бережку и бултыхнулся в воду. Он раза три нырнул, потом поплыл на спине и закрыл
от удовольствия глаза. Лицо его улыбалось и морщилось, как будто ему было
щекотно, больно и смешно.
В жаркий
день, когда некуда деваться от зноя и духоты, плеск воды и громкое дыхание купающегося
человека действуют на слух, как хорошая музыка. Дымов и Кирюха, глядя на
Степку, быстро разделись и, один за другим, с громким смехом и предвкушая
наслаждение, попадали в воду. И тихая, скромная речка огласилась фырканьем,
плеском и криком. Кирюха кашлял, смеялся и кричал так, как будто его хотели
утопить, а Дымов гонялся за ним и старался схватить его за ногу.
– Ге-ге-ге! –
кричал он. – Лови, держи его!
Кирюха
хохотал и наслаждался, но выражение лица у него было такое же, как и на суше:
глупое, ошеломленное, как будто кто незаметно подкрался к нему сзади и хватил
его обухом по голове. Егорушка тоже разделся, но не спускался вниз по бережку,
а разбежался и полетел с полуторасаженной вышины. Описав в воздухе дугу, он
упал в воду, глубоко погрузился, но дна не достал; какая-то сила, холодная и
приятная наощупь, подхватила его и понесла обратно наверх. Он вынырнул и,
фыркая, пуская пузыри, открыл глаза; но на реке как раз возле его лица
отражалось солнце. Сначала ослепительные искры, потом радуги и темные пятна
заходили в его глазах; он поспешил опять нырнуть, открыл в воде глаза и увидел
что-то мутно-зеленое, похожее на небо в лунную ночь. Опять та же сила, не давая
ему коснуться дна и побыть в прохладе, понесла его наверх, он вынырнул и
вздохнул так глубоко, что стало просторно и свежо не только в груди, но даже в
животе. Потом, чтобы взять от воды всё, что только можно взять, он позволял
себе всякую роскошь: лежал на спине и нежился, брызгался, кувыркался, плавал и
на животе, и боком, и на спине, и встоячую – как хотел, пока не утомился.
Другой берег густо порос камышом, золотился на солнце, и камышовые цветы
красивыми кистями наклонились к воде. На одном месте камыш вздрагивал, кланялся
своими цветами и издавал треск – то Степка и Кирюха «драли» раков.
– Рак!
Гляди, братцы: рак! – закричал торжествующе Кирюха и показал действительно
рака.
Егорушка
поплыл к камышу, нырнул и стал шарить около камышовых кореньев. Копаясь в
жидком, осклизлом иле, он нащупал что-то острое и противное, может быть, и в
самом деле рака, но в это время кто-то схватил его за ногу и потащил наверх.
Захлебываясь и кашляя, Егорушка открыл глаза и увидел перед собой мокрое
смеющееся лицо озорника Дымова. Озорник тяжело дышал и, судя по глазам, хотел
продолжать шалить. Он крепко держал Егорушку за ногу и уж поднял другую руку,
чтобы схватить его за шею, но Егорушка с отвращением и со страхом, точно
брезгуя и боясь, что силач его утопит, рванулся от него и проговорил:
– Дурак!
Я тебе в морду дам!
Чувствуя,
что этого недостаточно для выражения ненависти, он подумал и прибавил:
– Мерзавец!
Сукин сын!
А Дымов,
как ни в чем не бывало, уже не замечал Егорушки, а плыл к Кирюхе и кричал:
– Ге-ге-гей!
Давайте рыбу ловить! Ребята, рыбу ловить!
– А
что ж? – согласился Кирюха. – Должно, тут много рыбы…
– Степка,
побеги на деревню, попроси у мужиков бредня!
– Не
дадут!
– Дадут!
Ты попроси! Скажи, чтоб они заместо Христа ради, потому мы всё равно – странники.
– Это
верно!
Степка
вылез из воды, быстро оделся и без шапки, болтая своими широкими шароварами,
побежал к деревне. После столкновения с Дымовым вода потеряла уже для Егорушки
всякую прелесть. Он вылез и стал одеваться. Пантелей и Вася сидели на крутом
берегу, свесив вниз ноги, и глядели на купающихся. Емельян голый стоял по
колена в воде у самого берега, держался одной рукой за траву, чтобы не упасть,
а другою гладил себя по телу. С костистыми лопатками, с шишкой под глазом,
согнувшийся и явно трусивший воды, он представлял из себя смешную фигуру. Лицо
у него было серьезное, строгое, глядел он на воду сердито, как будто собирался
выбранить ее за то, что она когда-то простудила его в Донце и отняла у него
голос.
– А
ты отчего не купаешься? – спросил Егорушка у Васи.
– А
так… Не люблю… – ответил Вася.
– Отчего
это у тебя подбородок распух?
– Болит…
Я, паничек, на спичечной фабрике работал… Доктор сказывал, что от этого самого
у меня и черлюсть пухнет. Там воздух нездоровый. А кроме меня, еще у троих
ребят черлюсть раздуло, а у одного так совсем сгнила.
Скоро
вернулся Степка с бреднем. Дымов и Кирюха от долгого пребывания в воде стали лиловыми
и охрипли, но за рыбную ловлю принялись с охотой. Сначала они пошли по
глубокому месту, вдоль камыша; тут Дымову было по шею, а малорослому Кирюхе с
головой; последний захлебывался и пускал пузыри, а Дымов, натыкаясь на колючие
корни, падал и путался в бредне, оба барахтались и шумели, и из их рыбной ловли
выходила одна шалость.
– Глыбоко, –
хрипел Кирюха. – Ничего не поймаешь!
– Не
дергай, чёрт! – кричал Дымов, стараясь придать бредню надлежащее
положение. – Держи руками!
– Тут
вы не поймаете! – кричал им с берега Пантелей. – Только рыбу пужаете,
дурни! Забирайте влево! Там мельчее!
Раз над
бреднем блеснула крупная рыбешка; все ахнули, а Дымов ударил кулаком по тому
месту, где она исчезла, и на лице его выразилась досада.
– Эх! –
крикнул Пантелей и притопнул ногами. – Прозевали чикамаса! Ушел!
Забирая
влево, Дымов и Кирюха мало-помалу выбрались на мелкое, и тут ловля пошла
настоящая. Они забрели от подвод шагов на триста; видно было, как они, молча и
еле двигая ногами, стараясь забирать возможно глубже и поближе к камышу,
волокли бредень, как они, чтобы испугать рыбу и загнать ее к себе в бредень,
били кулаками по воде и шуршали в камыше. От камыша они шли к другому берегу,
тащили там бредень, потом с разочарованным видом, высоко поднимая колена, шли
обратно к камышу. О чем-то они говорили, но о чем – не было слышно. А солнце
жгло им в спины, кусались мухи, и тела их из лиловых стали багровыми. За ними с
ведром в руках, засучив рубаху под самые подмышки и держа ее зубами за подол,
ходил Степка. После каждой удачной ловли он поднимал вверх какую-нибудь рыбу и,
блестя ею на солнце, кричал:
– Поглядите,
какой чикамас! Таких уж штук пять есть!
Видно
было, как, вытащив бредень, Дымов, Кирюха и Степка всякий раз долго копались в
иле, что-то клали в ведро, что-то выбрасывали; изредка что-нибудь попавшее в
бредень они брали с рук на руки, рассматривали с любопытством, потом тоже
бросали…
– Что
там? – кричали им с берега.
Степка
что-то отвечал, но трудно было разобрать его слова. Вот он вылез из воды и,
держа ведро обеими руками, забывая опустить рубаху, побежал к подводам.
– Уже
полное! – кричал он, тяжело дыша. – Давайте другое!
Егорушка
заглянул в ведро: оно было полно; из воды высовывала свою некрасивую морду
молодая щука, а возле нее копошились раки и мелкие рыбешки. Егорушка запустил
руку на дно и взболтал воду; щука исчезла под раками, а вместо нее всплыли
наверх окунь и линь. Вася тоже заглянул в ведро. Глаза его замаслились и лицо
стало ласковым, как раньше, когда он видел лисицу. Он вынул что-то из ведра,
поднес ко рту и стал жевать. Послышалось хрустенье.
– Братцы, –
удивился Степка, – Васька пискаря живьем ест! Тьфу!
– Это
не пискарь, а бобырик, – покойно ответил Вася, продолжая жевать.
Он вынул
изо рта рыбий хвостик, ласково поглядел на него и опять сунул в рот. Пока он жевал
и хрустел зубами, Егорушке казалось, что он видит перед собой не человека.
Пухлый подбородок Васи, его тусклые глаза, необыкновенно острое зрение, рыбий
хвостик во рту и ласковость, с какою он жевал пискаря, делали его похожим на
животное.
Егорушке
стало скучно возле него. Да и рыбная ловля уже кончилась. Он прошелся около
возов, подумал и от скуки поплелся к деревне.
Немного
погодя он уже стоял в церкви и, положив лоб на чью-то спину, пахнувшую коноплей,
слушал, как пели на клиросе. Обедня уже близилась к концу. Егорушка ничего не
понимал в церковном пении и был равнодушен к нему. Он послушал немного, зевнул
и стал рассматривать затылки и спины. В одном затылке, рыжем и мокром от
недавнего купанья, он узнал Емельяна. Затылок был выстрижен под скобку и выше,
чем принято; виски были тоже выстрижены выше, чем следует, и красные уши
Емельяна торчали, как два лопуха, и, казалось, чувствовали себя не на своем
месте. Глядя на затылок и на уши, Егорушка почему-то подумал, что Емельян,
вероятно, очень несчастлив. Он вспомнил его дирижирование, сиплый голос, робкий
вид во время купанья и почувствовал к нему сильную жалость. Ему захотелось
сказать что-нибудь ласковое.
– А
я здесь! – сказал он, дернув его за рукав.
Люди,
поющие в хоре тенором или басом, особенно те, которым хоть раз в жизни приходилось
дирижировать, привыкают смотреть на мальчиков строго и нелюдимо. Эту привычку
не оставляют они и потом, переставая быть певчими. Обернувшись к Егорушке,
Емельян поглядел на него исподлобья и сказал:
– Не
балуйся в церкви!
Затем
Егорушка пробрался вперед, поближе к иконостасу. Тут он увидел интересных
людей. Впереди всех по правую сторону на ковре стояли какие-то господин и дама.
Позади них стояло по стулу. Господин был одет в свежевыглаженную чечунчовую
пару, стоял неподвижно, как солдат, отдающий честь, и высоко держал свой синий,
бритый подбородок. В его стоячих воротничках, в синеве подбородка, в небольшой
лысине и в трости чувствовалось очень много достоинства. От избытка достоинства
шея его была напряжена и подбородок тянуло вверх с такой силой, что голова,
казалось, каждую минуту готова была оторваться и полететь вверх. А дама, полная
и пожилая, в белой шелковой шали, склонила голову набок и глядела так, как
будто только что сделала кому-то одолжение и хотела сказать: «Ах, не
беспокойтесь благодарить! Я этого не люблю…» Вокруг ковра густой стеной стояли
хохлы.
Егорушка
подошел к иконостасу и стал прикладываться к местным иконам. Перед каждым
образом он не спеша клал земной поклон, не вставая с земли, оглядывался назад
на народ, потом вставал и прикладывался. Прикосновение лбом к холодному полу
доставляло ему большое удовольствие. Когда из алтаря вышел сторож с длинными
щипцами, чтобы тушить свечи, Егорушка быстро вскочил с земли и побежал к нему.
– Раздавали
уж просфору? – спросил он.
– Нету,
нету… – угрюмо забормотал сторож. – Нечего тут…
Обедня
кончилась. Егорушка не спеша вышел из церкви и пошел бродить по площади. На
своем веку перевидал он немало деревень, площадей и мужиков, и всё, что теперь
попадалось ему на глаза, совсем не интересовало его. От нечего делать, чтобы
хоть чем-нибудь убить время, он зашел в лавку, над дверями которой висела
широкая кумачовая полоса. Лавка состояла из двух просторных, плохо освещенных
половин: в одной продавались красный товар и бакалея, а в другой стояли бочки с
дегтем и висели на потолке хомуты; из той, другой, шел вкусный запах кожи и
дегтя. Пол в лавке был полит; поливал его, вероятно, большой фантазер и
вольнодумец, потому что он весь был покрыт узорами и кабалистическими знаками.
За прилавком, опершись животом о конторку, стоял откормленный лавочник с
широким лицом и с круглой бородой, по-видимому великоросс. Он пил чай вприкуску
и после каждого глотка испускал глубокий вздох. Лицо его выражало совершенное
равнодушие, но в каждом вздохе слышалось: «Ужо погоди, задам я тебе!»
– Дай
мне на копейку подсолнухов! – обратился к нему Егорушка.
Лавочник
поднял брови, вышел из-за прилавка и всыпал в карман Егорушки на копейку подсолнухов,
причем мерой служила пустая помадная баночка. Егорушке не хотелось уходить. Он
долго рассматривал ящики с пряниками, подумал и спросил, указывая на мелкие
вяземские пряники, на которых от давности лет выступила ржавчина:
– Почем
эти пряники?
– Копейка
пара.
Егорушка
достал из кармана пряник, подаренный ему вчера еврейкой, и спросил:
– А
такие пряники у тебя почем?
Лавочник
взял в руки пряник, оглядел его со всех сторон и поднял одну бровь.
– Такие? –
спросил он.
Потом
поднял другую бровь, подумал и ответил:
– Три
копейки пара…
Наступило
молчание.
– Вы
чьи? – спросил лавочник, наливая себе чаю из красного медного чайника.
– Племянник
Ивана Иваныча.
– Иваны
Иванычи разные бывают, – вздохнул лавочник; он поглядел через Егорушкину голову
на дверь, помолчал и спросил: – Чайку не желаете ли?
– Пожалуй… –
согласился Егорушка с некоторой неохотой, хотя чувствовал сильную тоску по
утреннем чае.
Лавочник
налил ему стакан и подал вместе с огрызенным кусочком сахару. Егорушка сел на
складной стул и стал пить. Он хотел еще спросить, сколько стоит фунт миндаля в
сахаре, и только что завел об этом речь, как вошел покупатель, и хозяин,
отставив в сторону свой стакан, занялся делом. Он повел покупателя в ту
половину, где пахло дегтем, и долго о чем-то разговаривал с ним. Покупатель,
человек, по-видимому, очень упрямый и себе на уме, всё время в знак несогласия
мотал головой и пятился к двери. Лавочник убедил его в чем-то и начал сыпать
ему овес в большой мешок.
– Хиба
це овес? – сказал печально покупатель. – Це не овес, а полова, курам
на смих… Ни, пиду к Бондаренку!
Когда
Егорушка вернулся к реке, на берегу дымил небольшой костер. Это подводчики варили
себе обед. В дыму стоял Степка и большой зазубренной ложкой мешал в котле.
Несколько в стороне, с красными от дыма глазами, сидели Кирюха и Вася и чистили
рыбу. Перед ними лежал покрытый илом и водорослями бредень, на котором блестела
рыба и ползали раки.
Недавно
вернувшийся из церкви Емельян сидел рядом с Пантелеем, помахивал рукой и едва
слышно напевал сиплым голоском: «Тебе поем…» Дымов бродил около лошадей.
Кончив
чистить, Кирюха и Вася собрали рыбу и живых раков в ведро, всполоснули и из ведра
вывалили всё в кипевшую воду.
– Класть
сала? – спросил Степка, снимая ложкой пену.
– Зачем?
Рыба свой сок пустит, – ответил Кирюха.
Перед
тем, как снимать с огня котел, Степка всыпал в воду три пригоршни пшена и ложку
соли; в заключение он попробовал, почмокал губами, облизал ложку и самодовольно
крякнул – это значило, что каша уже готова.
Все,
кроме Пантелея, сели вокруг котла и принялись работать ложками.
– Вы!
Дайте парнишке ложку! – строго заметил Пантелей. – Чай, небось, тоже
есть хочет!
– Наша
еда мужицкая!.. – вздохнул Кирюха.
– И
мужицкая пойдет во здравие, была бы охота.
Егорушке
дали ложку. Он стал есть, но не садясь, а стоя у самого котла и глядя в него,
как в яму. От каши пахло рыбной сыростью, то и дело среди пшена попадалась
рыбья чешуя; раков нельзя было зацепить ложкой, и обедавшие доставали их из
котла прямо руками; особенно не стеснялся в этом отношении Вася, который мочил
в каше не только руки, но и рукава. Но каша все-таки показалась Егорушке очень
вкусной и напоминала ему раковый суп, который дома в постные дни варила его
мамаша. Пантелей сидел в стороне и жевал хлеб.
– Дед,
а ты чего не ешь? – спросил его Емельян.
– Не
ем я раков… Ну их! – сказал старик и брезгливо отвернулся.
Пока
ели, шел общий разговор. Из этого разговора Егорушка понял, что у всех его
новых знакомых, несмотря на разницу лет и характеров, было одно общее, делавшее
их похожими друг на друга: все они были люди с прекрасным прошлым и с очень
нехорошим настоящим; о своем прошлом они, все до одного, говорили с восторгом,
к настоящему же относились почти с презрением. Русский человек любит
вспоминать, но не любит жить; Егорушка еще не знал этого, и, прежде чем каша
была съедена, он уж глубоко верил, что вокруг котла сидят люди, оскорбленные и
обиженные судьбой. Пантелей рассказывал, что в былое время, когда еще не было
железных дорог, он ходил с обозами в Москву и в Нижний, зарабатывал так много,
что некуда было девать денег. А какие в то время были купцы, какая рыба, как
всё было дешево! Теперь же дороги стали короче, купцы скупее, народ беднее,
хлеб дороже, всё измельчало и сузилось до крайности. Емельян говорил, что
прежде он служил в Луганском заводе в певчих, имел замечательный голос и
отлично читал ноты, теперь же он обратился в мужика и кормится милостями брата,
который посылает его со своими лошадями и берет себе за это половину заработка.
Вася когда-то служил на спичечной фабрике; Кирюха жил в кучерах у хороших людей
и на весь округ считался лучшим троечником. Дымов, сын зажиточного мужика, жил
в свое удовольствие, гулял и не знал горя, но едва ему минуло двадцать лет, как
строгий, крутой отец, желая приучить его к делу и боясь, чтобы он дома не
избаловался, стал посылать его в извоз как бобыля-работника. Один Степка
молчал, но и по его безусому лицу видно было, что прежде жилось ему гораздо
лучше, чем теперь.
Вспомнив
об отце, Дымов перестал есть и нахмурился. Он исподлобья оглядел товарищей и
остановил свой взгляд на Егорушке.
– Ты,
нехристь, сними шапку! – сказал он грубо. – Нешто можно в шапке есть?
А еще тоже барин!
Егорушка
снял шляпу и не сказал ни слова, но уж не понимал вкуса каши и не слышал, как
вступились за него Пантелей и Вася. В его груди тяжело заворочалась злоба
против озорника, и он порешил во что бы то ни стало сделать ему какое-нибудь
зло.
После
обеда все поплелись к возам и повалились в тень.
– Дед,
скоро мы поедем? – спросил Егорушка у Пантелея.
– Когда
бог даст, тогда и поедем… Сейчас не поедешь, жарко… Ох, господи твоя воля, владычица…
Ложись, парнишка!
Скоро
из-под возов послышался храп. Егорушка хотел было опять пойти в деревню, но подумал,
позевал и лег рядом со стариком.
|


