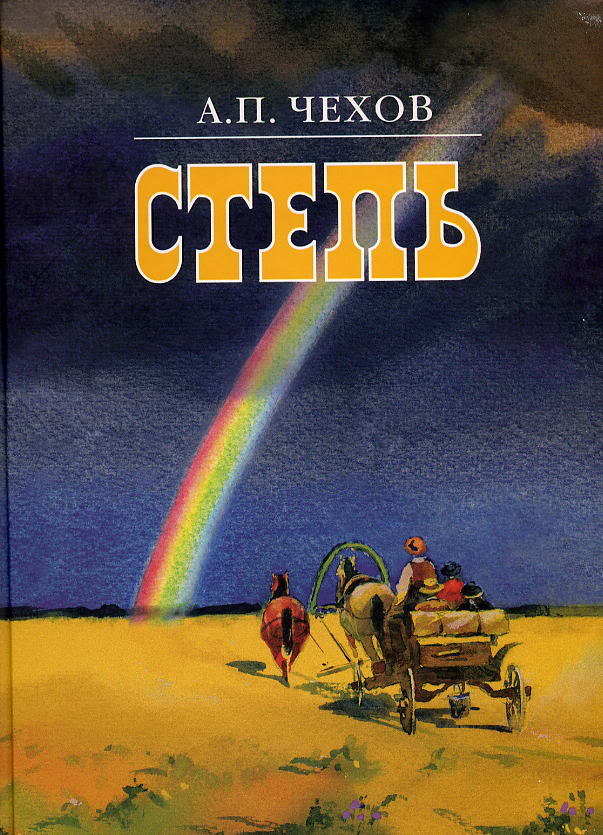
 Увеличить Увеличить |
IV
Кто же,
наконец, этот неуловимый, таинственный Варламов, о котором так много говорят,
которого презирает Соломон и который нужен даже красивой графине? Севши на
передок рядом с Дениской, полусонный Егорушка думал именно об этом человеке. Он
никогда не видел его, но очень часто слышал о нем и нередко рисовал его в своем
воображении. Ему известно было, что Варламов имеет несколько десятков тысяч
десятин земли, около сотни тысяч овец и очень много денег; об его образе жизни
и занятиях Егорушке было известно только то, что он всегда «кружился в этих
местах» и что его всегда ищут.
Много
слышал у себя дома Егорушка и о графине Драницкой. Она тоже имела несколько десятков
тысяч десятин, много овец, конский завод и много денег, но не «кружилась», а
жила у себя в богатой усадьбе, про которую знакомые и Иван Иваныч, не раз
бывавший у графини по делам, рассказывали много чудесного; так, говорили, что в
графининой гостиной, где висят портреты всех польских королей, находились
большие столовые часы, имевшие форму утеса, на утесе стоял дыбом золотой конь с
бриллиантовыми глазами, а на коне сидел золотой всадник, который всякий раз,
когда часы били, взмахивал шашкой направо и налево. Рассказывали также, что
раза два в год графиня давала бал, на который приглашались дворяне и чиновники
со всей губернии и приезжал даже Варламов; все гости пили чай из серебряных
самоваров, ели всё необыкновенное (например, зимою, на Рождество, подавались
малина и клубника) и плясали под музыку, которая играла день и ночь…
«А какая
она красивая!» – думал Егорушка, вспоминая ее лицо и улыбку.
Кузьмичов,
вероятно, тоже думал о графине, потому что, когда бричка проехала версты две,
он сказал:
– Да
и здорово же обирает ее этот Казимир Михайлыч! В третьем годе, когда я у нее,
помните, шерсть покупал, он на одной моей покупке тысячи три нажил.
– От
ляха иного и ждать нельзя, – сказал о. Христофор.
– А
ей и горюшка мало. Сказано, молодая да глупая. В голове ветер так и ходит!
Егорушке
почему-то хотелось думать только о Варламове и графине, в особенности о последней.
Его сонный мозг совсем отказался от обыкновенных мыслей, туманился и удерживал
одни только сказочные, фантастические образы, которые имеют то удобство, что
как-то сами собой, без всяких хлопот со стороны думающего, зарождаются в мозгу
и сами – стоит только хорошенько встряхнуть головой – исчезают бесследно; да и
всё, что было кругом, не располагало к обыкновенным мыслям. Направо темнели
холмы, которые, казалось, заслоняли собой чго-то неведомое и страшное, налево
всё небо над горизонтом было залито багровым заревом, и трудно было понять, был
ли то где-нибудь пожар или же собиралась восходить луна. Даль была видна, как и
днем, но уж ее нежная лиловая окраска, затушеванная вечерней мглой, пропала, и
вся степь пряталась во мгле, как дети Мойсея Мойсеича под одеялом.
В
июльские вечера и ночи уже не кричат перепела и коростели, не поют в лесных
балочках соловьи, не пахнет цветами, но степь всё еще прекрасна и полна жизни.
Едва зайдет солнце и землю окутает мгла, как дневная тоска забыта, всё прощено,
и степь легко вздыхает широкою грудью. Как будто от того, что траве не видно в
потемках своей старости, в ней поднимается веселая, молодая трескотня, какой не
бывает днем; треск, подсвистыванье, царапанье, степные басы, тенора и дисканты –
всё мешается в непрерывный, монотонный гул, под который хорошо вспоминать и
грустить. Однообразная трескотня убаюкивает, как колыбельная песня; едешь и
чувствуешь, что засыпаешь, но вот откуда-то доносится отрывистый, тревожный
крик неуснувшей птицы, или раздается неопределенный звук, похожий на чей-то
голос, вроде удивленного «а-а!», и дремота опускает веки. А то, бывало, едешь
мимо балочки, где есть кусты, и слышишь, как птица, которую степняки зовут сплюком,
кому-то кричит: «Сплю! сплю! сплю!», а другая хохочет или заливается
истерическим плачем – это сова. Для кого они кричат и кто их слушает на этой равнине,
бог их знает, но в крике их много грусти и жалобы… Пахнет сеном, высушенной
травой и запоздалыми цветами, но запах густ, сладко-приторен и нежен.
Сквозь
мглу видно всё, но трудно разобрать цвет и очертания предметов. Всё
представляется не тем, что оно есть. Едешь и вдруг видишь, впереди у самой
дороги стоит силуэт, похожий на монаха; он не шевелится, ждет и что-то держит в
руках… Не разбойник ли это? Фигура приближается, растет, вот она поравнялась с
бричкой, и вы видите, что это не человек, а одинокий куст или большой камень.
Такие неподвижные, кого-то поджидающие фигуры стоят на холмах, прячутся за
курганами, выглядывают из бурьяна, и все они походят на людей и внушают
подозрение.
А когда
восходит луна, ночь становится бледной и томной. Мглы как не бывало. Воздух прозрачен,
свеж и тепел, всюду хорошо видно и даже можно различить у дороги отдельные стебли
бурьяна. На далекое пространство видны черепа и камни. Подозрительные фигуры,
похожие на монахов, на светлом фоне ночи кажутся чернее и смотрят угрюмее. Чаще
и чаще среди монотонной трескотни, тревожа неподвижный воздух, раздается чье-то
удивленное «а-а!» и слышится крик неуснувшей или бредящей птицы. Широкие тени
ходят по равнине, как облака по небу, а в непонятной дали, если долго
всматриваться в нее, высятся и громоздятся друг на друга туманные, причудливые
образы… Немножко жутко. А взглянешь на бледно-зеленое, усыпанное звездами небо,
на котором ни облачка, ни пятна, и поймешь, почему теплый воздух недвижим,
почему природа настороже и боится шевельнуться: ей жутко и жаль утерять хоть
одно мгновение жизни. О необъятной глубине и безграничности неба можно судить
только на море да в степи ночью, когда светит луна. Оно страшно, красиво и
ласково, глядит томно и манит к себе, а от ласки его кружится голова.
Едешь
час-другой… Попадается на пути молчаливый старик-курган или каменная баба, поставленная
бог ведает кем и когда, бесшумно пролетит над землею ночная птица, и
мало-помалу на память приходят степные легенды, рассказы встречных, сказки
няньки-степнячки и всё то, что сам сумел увидеть и постичь душою. И тогда в
трескотне насекомых, в подозрительных фигурах и курганах, в глубоком небе, в
лунном свете, в полете ночной птицы, во всем, что видишь и слышишь, начинают
чудиться торжество красоты, молодость, расцвет сил и страстная жажда жизни;
душа дает отклик прекрасной, суровой родине, и хочется лететь над степью вместе
с ночной птицей. И в торжестве красоты, в излишке счастья чувствуешь напряжение
и тоску, как будто степь сознает, что она одинока, что богатство ее и
вдохновение гибнут даром для мира, никем не воспетые и никому не нужные, и
сквозь радостный гул слышишь ее тоскливый, безнадежный призыв: певца! певца!
– Тпрр!
Здорово, Пантелей! Всё благополучно?
– Слава
богу, Иван Иваныч!
– Не
видали, ребята, Варламова?
– Нет,
не видали.
Егорушка
проснулся и открыл глаза. Бричка стояла. Направо по дороге далеко вперед тянулся
обоз, около которого сновали какие-то люди. Все возы, потому что на них лежали
большие тюки с шерстью, казались очень высокими и пухлыми, а лошади –
маленькими и коротконогими.
– Так
мы, значит, теперь к молокану поедем! – громко говорил Кузьмичов. –
Жид сказывал, что Варламов у молокана ночует. В таком случае прощайте, братцы!
С богом!
– Прощайте,
Иван Иваныч! – ответило несколько голосов.
– Вот
что, ребята, – живо сказал Кузьмичов, – вы бы взяли с собой моего
парнишку! Что ему с нами зря болтаться? Посади его, Пантелей, к себе на тюк и
пусть себе едет помаленьку, а мы догоним. Ступай, Егор! Иди, ничего!..
Егорушка
слез с передка. Несколько рук подхватило его, подняло высоко вверх, и он очутился
на чем-то большом, мягком и слегка влажном от росы. Теперь ему казалось, что
небо было близко к нему, а земля далеко.
– Эй,
возьми свою пальтишку! – крикнул где-то далеко внизу Дениска.
Пальто и
узелок, подброшенные снизу, упали возле Егорушки. Он быстро, не желая ни о чем
думать, положил под голову узелок, укрылся пальто и, протягивая ноги во всю
длину, пожимаясь от росы, засмеялся от удовольствия.
«Спать,
спать, спать…» – думал он.
– Вы
же, черти, его не забижайте! – послышался снизу голос Дениски.
– Прощайте,
братцы! С богом! – крикнул Кузьмичов. – Я на вас надеюсь!
– Будьте
покойны, Иван Иваныч!
Дениска
ахнул на лошадей, бричка взвизгнула и покатила, но уж не по дороге, а куда-то в
сторону. Минуты две было тихо, точно обоз уснул, и только слышалось, как вдали
мало-помалу замирало лязганье ведра, привязанного к задку брички. Но вот
впереди обоза кто-то крикнул:
– Кирюха,
тро-о-гай!
Заскрипел
самый передний воз, за ним другой, третий… Егорушка почувствовал, как воз, на
котором он лежал, покачнулся и тоже заскрипел. Обоз тронулся. Егорушка покрепче
взялся рукой за веревку, которою был перевязан тюк, еще засмеялся от
удовольствия, поправил в кармане пряник и стал засыпать так, как он обыкновенно
засыпал у себя дома в постели…
Когда он
проснулся, уже восходило солнце; курган заслонял его собою, а оно, стараясь
брызнуть светом на мир, напряженно пялило свои лучи во все стороны и заливало
горизонт золотом. Егорушке показалось, что оно было не на своем месте, так как
вчера оно восходило сзади за его спиной, а сегодня много левее… Да и вся
местность не походила на вчерашнюю. Холмов уже не было, а всюду, куда ни
взглянешь, тянулась без конца бурая, невеселая равнина; кое-где на ней высились
небольшие курганы, и летали вчерашние грачи. Далеко впереди белели колокольни и
избы какой-то деревни; по случаю воскресного дня хохлы сидели дома, пекли и
варили – это видно было по дыму, который шел изо всех труб и сизой прозрачной
пеленой висел над деревней. В промежутках между изб и за церковью синела река,
а за нею туманилась даль. Но ничто не походило так мало на вчерашнее, как
дорога. Что-то необыкновенно широкое, размашистое и богатырское тянулось по
степи вместо дороги; то была серая полоса, хорошо выезженная и покрытая пылью,
как все дороги, но шириною в несколько десятков сажен. Своим простором она
возбудила в Егорушке недоумение и навела его на сказочные мысли. Кто по ней
ездит? Кому нужен такой простор? Непонятно и странно. Можно, в самом деле,
подумать, что на Руси еще не перевелись громадные, широко шагающие люди, вроде
Ильи Муромца и Соловья Разбойника, и что еще не вымерли богатырские кони.
Егорушка, взглянув на дорогу, вообразил штук шесть высоких, рядом скачущих
колесниц, вроде тех, какие он видывал на рисунках в священной истории; заложены
эти колесницы в шестерки диких, бешеных лошадей и своими высокими колесами
поднимают до неба облака пыли, а лошадьми правят люди, какие могут сниться или
вырастать в сказочных мыслях. И как бы эти фигуры были к лицу степи и дороге,
если бы они существовали!
По
правой стороне дороги на всем ее протяжении стояли телеграфные столбы с двумя
проволоками. Становясь всё меньше и меньше, они около деревни исчезали за
избами и зеленью, а потом опять показывались в лиловой дали в виде очень
маленьких, тоненьких палочек, похожих на карандаши, воткнутые в землю. На
проволоках сидели ястребы, кобчики и вороны и равнодушно глядели на двигавшийся
обоз.
Егорушка
лежал на самом заднем возу и мог поэтому видеть весь обоз. Всех подвод в обозе
было около двадцати и на каждые три подводы приходилось по одному возчику.
Около заднего воза, где был Егорушка, шел старик с седой бородой, такой же
тощий и малорослый, как о. Христофор, но с лицом, бурым от загара, строгим и
задумчивым. Очень может быть, что этот старик не был ни строг, ни задумчив, но
его красные веки и длинный, острый нос придавали его лицу строгое, сухое
выражение, какое бывает у людей, привыкших думать всегда о серьезном и в одиночку.
Как и на о. Христофоре, на нем был широкополый цилиндр, но не барский, а
войлочный и бурый, похожий скорее на усеченный конус, чем на цилиндр. Ноги его
были босы. Вероятно, по привычке, приобретенной в холодные зимы, когда не раз,
небось, приходилось ему мерзнуть около обоза, он на ходу похлопывал себя по
бедрам и притопывал ногами. Заметив, что Егорушка проснулся, он поглядел на
него и сказал, пожимаясь, как от мороза:
– А,
проснулся, молодчик! Сынком Ивану Ивановичу-то доводишься?
– Нет,
племянник…
– Ивану
Иванычу-то? А я вот сапожки снял и босиком прыгаю. Ножки у меня больные, стуженые,
а без сапогов оно выходит слободнее… Слободнее, молодчик… То есть без сапогов-то…
Значит, племянник? А он хороший человек, ничего… Дай бог здоровья… Ничего… Я
про Ивана Иваныча-то… К молокану поехал… О, господи, помилуй!
Старик и
говорил так, как будто было очень холодно, с расстановками и не раскрывая как
следует рта; и губные согласные выговаривал он плохо, заикаясь на них, точно у
него замерзли губы. Обращаясь к Егорушке, он ни разу не улыбнулся и казался
строгим.
Дальше
через две подводы шел с кнутом в руке человек в длинном рыжем пальто, в картузе
и сапогах с опустившимися голенищами. Этот был не стар, лет сорока. Когда он
оглянулся, Егорушка увидел длинное красное лицо с жидкой козлиной бородкой и с
губчатой шишкой под правым глазом. Кроме этой, очень некрасивой шишки, у него
была еще одна особая примета, резко бросавшаяся в глаза: в левой руке держал он
кнут, а правою помахивал таким образом, как будто дирижировал невидимым хором;
изредка он брал кнут под мышку и тогда уж дирижировал обеими руками и что-то
гудел себе под нос.
Следующий
за ним подводчик представлял из себя длинную, прямолинейную фигуру с сильно
покатыми плечами и с плоской, как доска, спиной. Он держался прямо, как будто
маршировал или проглотил аршин, руки у него не болтались, а отвисали, как
прямые палки, и шагал он как-то деревянно, на манер игрушечных солдатиков,
почти не сгибая колен и стараясь сделать шаг возможно пошире; когда старик или
обладатель губчатой шишки делали по два шага, он успевал делать только один и
потому казалось, что он идет медленнее всех и отстает. Лицо у него было
подвязано тряпкой и на голове торчало что-то вроде монашеской скуфейки; одет он
был в короткую хохлацкую чумарку, всю усыпанную латками, и в синие шаровары
навыпуск, а обут в лапти.
Тех, кто
был дальше, Егорушка уже не разглядывал. Он лег животом вниз, расковырял в тюке
дырочку и от нечего делать стал вить из шерсти ниточки. Старик, шагавший внизу,
оказался не таким строгим и серьезным, как можно было судить по его лицу. Раз
начавши разговор, он уж не прекращал его.
– Ты
куда же едешь? – спросил он, притопывая ногами.
– Учиться, –
ответил Егорушка.
– Учиться?
Ага… Ну, помогай царица небесная. Так. Ум хорошо, а два лучше. Одному человеку
бог один ум дает, а другому два ума, а иному и три… Иному три, это верно… Один
ум, с каким мать родила, другой от учения, а третий от хорошей жизни. Так вот,
братуша, хорошо, ежели у которого человека три ума. Тому не то что жить, и
помирать легче. Помирать-то… А помрем все как есть.
Старик
почесал себе лоб, взглянул красными глазами вверх на Егорушку и продолжал:
– Максим
Николаич, барин из-под Славяносербска, в прошлом годе тоже повез своего парнишку
в учение. Не знаю, как он там в рассуждении наук, а парнишка ничего, хороший…
Дай бог здоровья, славные господа. Да, тоже вот повез в ученье… В
Славяносербском нету такого заведения, чтоб, стало быть, до науки доводить.
Нету… А город ничего, хороший… Школа обыкновенная, для простого звания есть, а
чтоб насчет большого ученья, таких нету… Нету, это верно. Тебя как звать?
– Егорушка.
– Стало
быть, Егорий… Святого великомученика Егоргия Победоносца числа двадцать третьего
апреля. А мое святое имя Пантелей… Пантелей Захаров Холодов… Мы Холодовы будем…
Сам я уроженный, может, слыхал, из Тима, Курской губернии. Браты мои в мещане
отписались и в городе мастерством занимаются, а я мужик… Мужиком остался. Годов
семь назад ездил я туда… домой то есть. И в деревне был, и в городе… В Тиме,
говорю, был. Тогда, благодарить бога, все живы и здоровы были, а теперь не
знаю… Может, кто и помер… А помирать уж время, потому все старые, есть которые
постаршее меня. Смерть ничего, оно хорошо, да только бы, конечно, без покаяния
не помереть. Нет пуше лиха, как наглая смерть. Наглая-то смерть бесу радость. А
коли хочешь с покаянием помереть, чтобы, стало быть, в чертоги божии запрету
тебе не было, Варваре великомученице молись. Она ходатайница. Она, это верно…
Потому ей бог в небесех такое положение определил, чтоб, значит, каждый имел
полную праву ее насчет покаяния молить.
Пантелей
бормотал и, по-видимому, не заботился о том, слышит его Егорушка или нет. Говорил
он вяло, себе под нос, не повышая и не понижая голоса, но в короткое время
успел рассказать о многом. Всё рассказанное им состояло из обрывков, имевших
очень мало связи между собой и совсем неинтересных для Егорушки. Быть может, он
говорил только для того, чтобы теперь утром после ночи, проведенной в молчании,
произвести вслух проверку своим мыслям: все ли они дома? Кончив о покаянии, он
опять заговорил о каком-то Максиме Николаевиче из-под Славяносербска:
– Да,
повез парнишку… Повез, это верно…
Один из
подводчиков, шедших далеко впереди, рванулся с места, побежал в сторону и стал
хлестать кнутом по земле. Это был рослый, широкоплечий мужчина лет тридцати,
русый, кудрявый и, по-видимому, очень сильный и здоровый. Судя по движениям его
плеч и кнута, по жадности, которую выражала его поза, он бил что-то живое. К
нему подбежал другой подводчик, низенький и коренастый, с черной окладистой
бородой, одетый в жилетку и рубаху навыпуск. Этот разразился басистым кашляющим
смехом и закричал:
– Братцы,
Дымов змея убил! Ей-богу!
Есть
люди, об уме которых можно верно судить по их голосу и смеху. Чернобородый принадлежал
именно к таким счастливцам: в его голосе и смехе чувствовалась непроходимая глупость.
Кончив хлестать, русый Дымов поднял кнутом с земли и со смехом швырнул к подводам
что-то похожее на веревку.
– Это
не змея, а уж, – крикнул кто-то.
Деревянно
шагавший человек с подвязанным лицом быстро зашагал к убитой змее, взглянул на
нее и всплеснул своими палкообразными руками.
– Каторжный! –
закричал он глухим, плачущим голосом. – За что ты ужика убил? Что он тебе
сделал, проклятый ты? Ишь, ужика убил! А ежели бы тебя так?
– Ужа
нельзя убивать, это верно… – покойно забормотал Пантелей. – Нельзя…
Это не гадюка. Он хоть по виду змея, а тварь тихая, безвинная… Человека любит…
Уж-то…
Дымову и
чернобородому, вероятно, стало совестно, потому что они громко засмеялись и, не
отвечая на ропот, лениво поплелись к своим возам. Когда задняя подвода
поравнялась с тем местом, где лежал убитый уж, человек с подвязанным лицом,
стоящий над ужом, обернулся к Пантелею и спросил плачущим голосом:
– Дед,
ну за что он убил ужика?
Глаза у
него, как теперь разглядел Егорушка, были маленькие, тусклые, лицо серое,
больное и тоже как будто тусклое, а подбородок был красен и представлялся
сильно опухшим.
– Дед,
ну за что убил? – повторил он, шагая рядом с Пантелеем.
– Глупый
человек, руки чешутся, оттого и убил, – ответил старик. – А ужа бить
нельзя… Это верно… Дымов, известно, озорник, всё убьет, что под руку попадется,
а Кирюха не вступился. Вступиться бы надо, а он – ха-ха-ха, да хо-хо-хо… А ты,
Вася, не серчай… Зачем серчать? Убили, ну и бог с ними… Дымов озорник, а Кирюха
от глупого ума… Ничего… Люди глупые, непонимающие, ну и бог с ними. Вот Емельян
никогда не тронет, что не надо. Никогда, это верно… Потому человек
образованный, а они глупые… Емельян-то… Он не тронет.
Подводчик
в рыжем пальто и с губчатой шишкой, дирижировавший невидимым хором, услышав
свое имя, остановился и, выждав, когда Пантелей и Вася поровнялись с ним, пошел
рядом.
– О
чем разговор? – спросил он сиплым, придушенным голосом.
– Да
вот Вася серчает, – сказал Пантелей. – Я ему разные слова, чтобы он
не серчал, значит… Эх, ножки мои больные, стуженые! Э-эх! Раззуделись ради
воскресенья, праздничка господня!
– Это
от ходьбы, – заметил Вася.
– Не,
паря, не… Не от ходьбы. Когда хожу, словно легче, когда ложусь да согреюсь –
смерть моя. Ходить мне вольготней.
Емельян
в рыжем пальто стал между Пантелеем и Васей и замахал рукой, как будто те собирались
петь. Помахав немножко, он опустил руку и безнадежно крякнул.
– Нету
у меня голосу! – сказал он. – Чистая напасть! Всю ночь и утро
мерещится мне тройное «Господи, помилуй», что мы на венчании у Мариновского
пели; сидит оно в голове и в глотке… так бы, кажется, и спел, а не могу! Нету
голосу!
Он помолчал
минуту, о чем-то думая, и продолжал:
– Пятнадцать
лет был в певчих, во всем Луганском заводе, может, ни у кого такого голоса не
было, а как, чтоб его шут, выкупался в третьем году в Донце, так с той поры ни
одной ноты не могу взять чисто. Глотку застудил. А мне без голосу всё равно,
что работнику без руки.
– Это
верно, – согласился Пантелей.
– Об
себе я так понимаю, что я пропащий человек и больше ничего.
В это
время Вася нечаянно увидел Егорушку. Глаза его замаслились и стали еще меньше.
– И
паничек с нами едет! – сказал он и прикрыл нос рукавом, точно
застыдившись. – Какой извозчик важный! Оставайся с нами, будешь с обозом
ездить, шерсть возить.
Мысль о
совместимости в одном теле паничка с извозчиком показалась ему, вероятно, очень
курьезной и остроумной, потому что он громко захихикал и продолжал развивать
эту мысль. Емельян тоже взглянул вверх на Егорушку, но мельком и холодно. Он
был занят своими мыслями, и если бы не Вася, то не заметил бы присутствия
Егорушки. Не прошло и пяти минут, как он опять замахал рукой, потом, расписывая
своим спутникам красоты венчального «Господи, помилуй», которое ночью пришло
ему на память, взял кнут под мышку и замахал обеими руками.
За
версту от деревни обоз остановился около колодца с журавлем. Опуская в колодезь
свое ведро, чернобородый Кирюха лег животом на сруб и сунул в темную дыру свою
мохнатую голову, плечи и часть груди, так что Егорушке были видны одни только
его короткие ноги, едва касавшиеся земли; увидев далеко на дне колодца
отражение своей головы, он обрадовался и залился глупым, басовым смехом, а
колодезное эхо ответило ему тем же; когда он поднялся, его лицо и шея были
красны, как кумач. Первый подбежал пить Дымов. Он пил со смехом, часто
отрываясь от ведра и рассказывая Кирюхе о чем-то смешном, потом поперхнулся и
громко, на всю степь, произнес штук пять нехороших слов. Егорушка не понимал
значения подобных слов, но что они были дурные, ему было хорошо известно. Он
знал об отвращении, которое молчаливо питали к ним его родные и знакомые, сам,
не зная почему, разделял это чувство и привык думать, что одни только пьяные да
буйные пользуются привилегией произносить громко эти слова. Он вспомнил
убийство ужа, прислушался к смеху Дымова и почувствовал к этому человеку что-то
вроде ненависти. И как нарочно, Дымов в это время увидел Егорушку, который слез
с воза и шел к колодцу; он громко засмеялся и крикнул:
– Братцы,
старик ночью мальчишку родил!
Кирюха
закашлялся от басового смеха. Засмеялся и еще кто-то, а Егорушка покраснел и
окончательно решил, что Дымов очень злой человек.
Русый, с
кудрявой головой, без шапки и с расстегнутой на груди рубахой, Дымов казался
красивым и необыкновенно сильным; в каждом его движении виден был озорник и
силач, знающий себе цену. Он поводил плечами, подбоченивался, говорил и смеялся
громче всех и имел такой вид, как будто собирался поднять одной рукой что-то
очень тяжелое и удивить этим весь мир. Его шальной насмешливый взгляд скользил
по дороге, по обозу и по небу, ни на чем не останавливался и, казалось, искал,
кого бы еще убить от нечего делать и над чем бы посмеяться. По-видимому, он
никого не боялся, ничем не стеснял себя и, вероятно, совсем не интересовался
мнением Егорушки… А Егорушка уж всей душой ненавидел его русую голову, чистое
лицо и силу, с отвращением и страхом слушал его смех и придумывал, какое бы
бранное слово сказать ему в отместку.
Пантелей
тоже подошел к ведру. Он вынул из кармана зеленый лампадный стаканчик, вытер
его тряпочкой, зачерпнул им из ведра и выпил, потом еще раз зачерпнул, завернул
стаканчик в тряпочку и положил его обратно в карман.
– Дед,
зачем ты пьешь из лампадки? – удивился Егорушка.
– Кто
пьет из ведра, а кто из лампадки, – ответил уклончиво старик. –
Каждый по-своему… Ты из ведра пьешь, ну и пей на здоровье…
– Голубушка
моя, матушка-красавица, – заговорил вдруг Вася ласковым, плачущим голосом. –
Голубушка моя!
Глаза
его были устремлены вдаль, они замаслились, улыбались, и лицо приняло такое же
выражение, какое у него было ранее, когда он глядел на Егорушку.
– Кому
это ты? – спросил Кирюха.
– Лисичка-матушка…
легла на спину и играет, словно собачка…
Все
стали смотреть вдаль и искать глазами лисицу, но ничего не нашли. Один только
Вася видел что-то своими мутными серыми глазками и восхищался. Зрение у него,
как потом убедился Егорушка, было поразительно острое. Он видел так хорошо, что
бурая пустынная степь была для него всегда полна жизни и содержания. Стоило ему
только вглядеться в даль, чтобы увидеть лисицу, зайца, дрохву или другое
какое-нибудь животное, держащее себя подальше от людей. Немудрено увидеть
убегающего зайца или летящую дрохву – это видел всякий, проезжавший степью, –
но не всякому доступно видеть диких животных в их домашней жизни, когда они не
бегут, не прячутся и не глядят встревоженно по сторонам. А Вася видел играющих
лисиц, зайцев, умывающихся лапками, дрохв, расправляющих крылья, стрепетов,
выбивающих свои «точки». Благодаря такой остроте зрения, кроме мира, который
видели все, у Васи был еще другой мир, свой собственный, никому не доступный и,
вероятно, очень хороший, потому что, когда он глядел и восхищался, трудно было
не завидовать ему.
Когда
обоз тронулся дальше, в церкви зазвонили к обедне.
|


