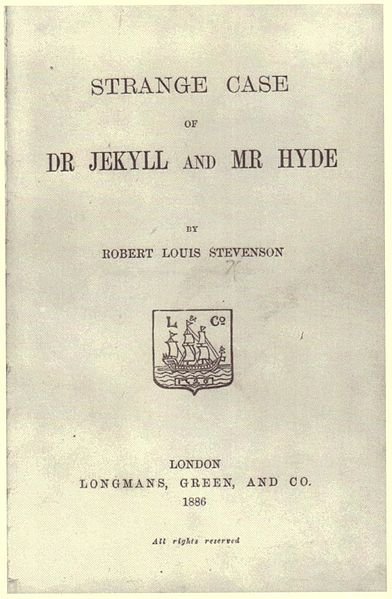
 Увеличить Увеличить |
ИСТОРИЯ ДВЕРИ
Мистер
Аттерсон, нотариус, чье суровое лицо никогда не освещала улыбка, был замкнутым
человеком, немногословным и неловким в обществе, сухопарым, пыльным, скучным —
и все‑таки очень симпатичным. В кругу
друзей и особенно когда вино ему нравилось, в его глазах начинал теплиться
огонек мягкой человечности, которая не находила доступа в его речь; зато она
говорила не только в этих безмолвных средоточиях послеобеденного благодушия, но
и в его делах, причем куда чаще и громче. Он был строг с собой: когда обедал в
одиночестве, то, укрощая вожделение к тонким винам, пил джин и, горячо любя
драматическое искусство, более двадцати лет не переступал порога театра. Однако
к слабостям ближних он проявлял достохвальную снисходительность, порой с легкой
завистью дивился буйному жизнелюбию, крывшемуся в их грехах, а когда для них
наступал час расплаты, предпочитал помогать, а не порицать.
— Я
склонен к каиновой ереси, — говаривал он со скрытой усмешкой. — Я не
мешаю брату моему искать погибели, которая ему по вкусу.
А потому
судьба часто судила ему быть последним порядочным знакомым многих опустившихся
людей и последним добрым влиянием в их жизни. И когда они к нему приходили, он
держался с ними точно так же, как прежде.
Без
сомнения, мистеру Аттерсону это давалось легко, так как он всегда был весьма
сдержан, и даже дружба его, казалось, проистекала все из той же вселенской
благожелательности. Скромным натурам свойственно принимать свой дружеский круг
уже готовым из рук случая; этому правилу следовал и наш нотариус. Он дружил
либо с родственниками, либо с давними знакомыми; его привязанность, подобно
плющу, питалась временем и ничего не говорила о достоинствах того, кому она
принадлежала. Именно такого рода, вероятно, были и те узы дружбы, которые
связывали нотариуса с его дальним родственником мистером Ричардом Энфилдом,
известным лондонским бонвиваном. Немало людей ломало голову над тем, что эти
двое находят друг в друге привлекательного и какие у них могут быть общие
интересы. Те, кто встречался с ними во время их воскресных прогулок,
рассказывали, что шли они молча, на лицах их была написана скука и при появлении
общего знакомого оба как будто испытывали значительное облегчение. Тем не менее
и тот и другой очень любили эти прогулки, считали их лучшим украшением всей
недели и ради них не только жертвовали другими развлечениями, но и откладывали
дела.
И вот
как‑то раз в такое воскресенье случай привел их в некую
улочку одного из деловых кварталов Лондона. Улочка эта была небольшой и, что
называется, тихой, хотя в будние дни там шла бойкая торговля. Ее обитатели, по‑видимому,
преуспевали, и все они ревниво надеялись преуспеть еще больше, а избытки
прибылей употребляли на прихорашивание; поэтому витрины по обеим ее сторонам
источали приветливость, словно два ряда улыбающихся продавщиц. Даже в
воскресенье, когда улочка прятала наиболее пышные свои прелести и была
пустынна, все же по сравнению с окружающим убожеством она сияла, точно костер в
лесу, — аккуратно выкрашенные ставни, до блеска начищенные дверные ручки и
общий дух чистоты и веселости сразу привлекали и радовали взгляд случайного
прохожего.
Через
две двери от угла, по левой стороне, если идти к востоку, линия домов
нарушалась входом во двор, и как раз там высилось массивное здание. Оно было
двухатажным, без единого окна — только дверь внизу да слепой лоб грязной стены
над ней — и каждая его черта свидетельствовала о длительном и равнодушном
небрежении. На облупившейся, в темных разводах двери не было ни звонка, ни
молотка. Бродяги устраивались отдохнуть в ее нише и зажигали спички о ее
панели, дети играли «в магазин» на ступеньках крыльца, школьник испробовал
остроту своего ножика на резных завитушках, и уже много лет никто не прогонял
этих случайных гостей и не старался уничтожить следы их бесчинств.
Мистер
Энфилд и нотариус шли по другой стороне улочки, но, когда они поравнялись с
этим зданием, первый поднял трость и указал на него.
— Вы
когда‑нибудь обращали внимание на эту
дверь? — спросил он, а когда его спутник ответил утвердительно, добавил: —
С ней связана для меня одна очень странная история.
— Неужели? —
спросил мистер Аттерсон слегка изменившимся голосом. — Какая же?
— Дело
было так, — начал мистер Энфилд. — Я возвращался домой откуда‑то
с края света часа в три позимнему темной ночи, и путь мой вел через кварталы,
где буквально ничего не было видно, кроме фонарей. Улица за улицей, где все
спят, улица за улицей, освещенные, словно для какого‑нибудь
торжества, и опустелые, как церковь, так что в конце концов я впал в то состояние,
когда человек тревожно вслушивается в тишину и начинает мечтать о встрече с
полицейским. И вдруг я увидел целых две человеческие фигуры: в восточном
направлении быстрой походкой шел какой‑то невысокий мужчина, а по
поперечной улице опрометью бежала девочка лет девяти. На углу они, как и можно
было ожидать, столкнулись, и вот тут‑то произошло нечто непередаваемо
мерзкое: мужчина хладнокровно наступил на упавшую девочку и даже не обернулся
на ее громкие стоны. Рассказ об этом может и не произвести большого
впечатления, но видеть это было непереносимо. Передо мной был не человек, а
какой‑то адский Джаггернаут. Я
закричал, бросился вперед, схватил молодчика за ворот и потащил назад, туда,
где вокруг стонущей девочки уже собрались люди. Он нисколько не смутился и не
пробовал сопротивляться, но бросил на меня такой злобный взгляд, что я весь
покрылся испариной, точно после долгого бега. Оказалось, что люди, толпившиеся
возле девочки, — ее родные, а вскоре к ним присоединился и врач, которого
она бегала позвать к больному. Он объявил, что с девочкой не случилось ничего
серьезного, что она только перепугалась. Тут, казалось бы, мы могли спокойно
разойтись, но этому воспрепятствовало одно странное обстоятельство. Я сразу же
проникся к этому молодчику ненавистью и омерзением. И родные девочки тоже, что,
конечно, было только естественно. Однако меня поразил врач. Это был самый
обыкновенный лекарь, бесцветный, не молодой и не старый, говорил он с сильным
эдинбургским акцентом, и чувствительности в нем было не больше, чем в волынке.
Так вот, сэр. С ним случилось то же, что и со всеми нами, — стоило ему
взглянуть на моего пленника, как он даже бледнел от желания убить его тут же на
месте. Я догадывался, что чувствует он, а он догадывался, что чувствую я, и,
хотя убить негодяя, к сожалению, все‑таки было нельзя, мы все же
постарались его наказать. Мы сказали ему, что можем ославить его на весь
Лондон, — и ославим. Если у него есть друзья или доброе имя, мы
позаботимся о том, чтобы он их лишился. И все это время мы с трудом удерживали
женщин, которые готовы были растерзать его, точно фурии. Мне никогда еще не
приходилось видеть такой ненависти, написанной на стольких лицах, а негодяй
стоял в самой середине этого кольца, сохраняя злобную и презрительную
невозмутимость, — я видел, что он испуган, но держался он хладнокровно,
будто сам Сатана. «Если вы решили нажиться на этой случайности, — заявил
он, — то я, к сожалению, бессилен. Джентльмен, разумеется, всегда
предпочтет избежать скандала. Сколько вы требуете?» В конце концов мы выжали из
него сто фунтов для родных девочки; он попробовал было упереться, но понял, что
может быть хуже, и пошел на попятный. Теперь оставалось только получить деньги,
и знаете, куда он нас привел? К этой самой двери! Достал ключ, отпер ее, вошел
и через несколько минут вынес десять гиней и чек на банк Куттса, выданный на
предъявителя и подписанный фамилией, которую я не стану называть, хотя в нейто
и заключена главная соль моей истории; скажу только, что фамилия эта очень
известна и ее нередко можно встретить на страницах газет. Сумма была немалая,
но подпись гарантировала бы и не такие деньги при условии, конечно, что была
подлинной. Я не постеснялся сказать молодчику, насколько подозрительным все это
выглядит: только в романах человек в четыре часа утра входит в подвальную
дверь, а потом выносит чужой чек почти на сто фунтов. Но он и бровью не повел.
«Не беспокойтесь, — заявил он презрительно. — Я останусь с вами, пока
не откроются банки, и сам получу по чеку». После чего мы все — врач, отец
девочки, наш приятель и я — отправились ко мне и просидели у меня до утра, а
после завтрака всей компанией пошли в банк. Чек кассиру отдал я и сказал, что у
меня есть основания считать его фальшивым. Ничуть не бывало! Подпись оказалась
подлинной.
— Так‑так! —
заметил мистер Аттерсон.
— Я
вижу, вы разделяете мой взгляд, — сказал мистер Энфилд. — Да, история
скверная. Ведь этот молодчик был, несомненно, отпетый негодяй, а человек,
подписавший чек, — воплощение самой высокой порядочности, пользуется
большой известностью и (что только ухудшает дело) принадлежит к так называемым
филантропам.
По‑моему,
тут кроется шантаж: честный человек платит огромные деньги, чтобы какие‑то
его юношеские шалости не стали достоянием гласности. «Дом шантажиста» — вот как
я называю теперь этот дом с дверью. Но даже и это, конечно, объясняет далеко не
все! — Мистер Энфилд погрузился в задумчивость, из которой его вывел
мистер Аттерсон, неожиданно спросив:
— Но
вам неизвестно, там ли живет человек, подписавший чек?
— В
таком‑то доме? — возразил мистер
Энфилд. — К тому же я прочел на чеке — его адрес — какая‑то
площадь.
— И
вы не наводили справок… о доме с дверью? — осведомился мистер Аттерсон.
— Нет.
На мой взгляд, это было бы непорядочным.
Я
терпеть не могу расспросов: в наведении справок есть какой‑то
привкус Судного дня. Задать вопрос — это словно столкнуть камень с горы: вы
сидите себе спокойненько на ее вершине, а камень катится вниз, увлекает за
собой другие камни; какой‑нибудь безобидный старикашка, которого
у вас и в мыслях не было, копается у себя в садике, и все это обрушивается на
него, а семье приходится менять фамилию. Нет, сэр, у меня твердое правило: чем
подозрительнее выглядит дело, тем меньше я задаю вопросов.
— Превосходное
правило, — согласился нотариус.
— Однако
я занялся наблюдением за этим зданием, — продолжал мистер Энфилд. —
Собственно говоря, его нельзя назвать жилым домом. Других дверей в нем нет, а
этой, да и то лишь изредка, пользуется только наш молодчик. Во двор выходят три
окна, но они расположены на втором этаже, а на первом этаже окон нет вовсе; окна
эти всегда закрыты, но стекло в них протерто. Из трубы довольно часто идет дым,
следовательно, в доме все‑таки кто‑то
живет. Впрочем, подобное свидетельство нельзя считать неопровержимым, так как
дома тут стоят столь тесно, что трудно сказать, где кончается одно здание и
начинается другое.
Некоторое
время друзья шли молча. Первым заговорил мистер Аттерсон.
— Энфилд, —
сказал он, — это ваше правило превосходно.
— Да,
я и сам так считаю, — ответил Энфилд.
— Тем
не менее, — продолжал нотариус, — мне всетаки хотелось бы задать вам
один вопрос. Я хочу спросить, как звали человека, который наступил на упавшего
ребенка.
— Что
же, — сказал мистер Энфилд, — не вижу причины, почему я должен это
скрывать. Его фамилия Хайд.
— Гм! —
отозвался мистер Аттерсон. — А как он выглядит?
— Его
наружность трудно описать. Что‑то в ней есть странное… что‑то
неприятное… попросту отвратительное. Ни один человек еще не вызывал у меня
подобной гадливости, хотя я сам не понимаю, чем она объясняется. Наверное, в
нем есть какое‑то уродство, такое впечатление
создается с первого же взгляда, хотя я не могу определить отчего. У него
необычная внешность, но необычность эта какая‑то
неуловимая. Нет, сэр, у меня ничего не получается: я не могу описать, как он
выглядит. И не потому, что забыл: он так и стоит у меня перед глазами.
Мистер
Аттерсон некоторое время шел молча, что‑то старательно обдумывая.
— А
вы уверены, что у него был собственный ключ? — спросил он наконец.
— Право
же… — начал Энфилд, даже растерявшись от изумления.
— Да,
конечно, — перебил его Аттерсон. — Я понимаю, что выразился неудачно.
Видите ли, я не спросил вас об имени того, чья подпись стояла на чеке, только
петому, что я его уже знаю. Дело в том. Ричард, что ваши история в какой‑то
мере касается и меня. Постарайтесь вспомнить, не было ли в вашем рассказе каких‑либо
неточностей.
— Вам
следовало бы предупредить меня, — обиженно ответил мистер Энфилд, —
но я был педантично точен. У молодчика был ключ. Более того, у него и сейчас
есть ключ: я видел, как он им воспользовался всего несколько дней назад.
Мистер
Аттерсон глубоко вздохнул, но ничего не ответил, и его спутник через мгновение
прибавил:
— Вот
еще один довод в пользу молчания. Мне стыдно, что я оказался таким болтуном.
Обещаем друг другу никогда впредь не возвращаться к этой теме.
— С
величайшей охотой, — ответил нотариус. — Совершено с вами согласен,
Ричард.
|


