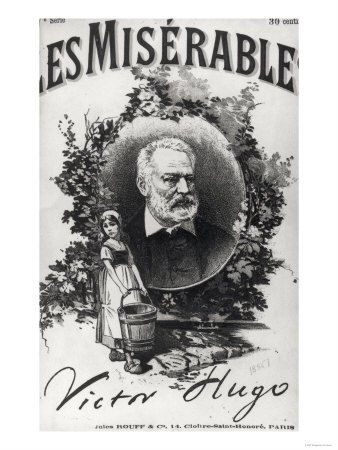
 Увеличить Увеличить |
Глава третья.
Requiescant[86]
Салоном г-жи де Т. ограничивалось для Мариуса Понмерси
знание жизни. Салон был единственным оконцем, через которое он мог глядеть в мир.
Окно было тусклое; сквозь него проникало больше холода, нежели тепла, больше
мрака, нежели света. Вступив радостным и сияющим в этот мирок, ребенок после
недолгого пребывания там стал печальным и – что еще менее соответствовало его
возрасту – серьезным. Окруженный всеми этими важными и странными людьми, он
глядел вокруг с изумлением. А все, что он видел, могло только усилить это
чувство. В салоне г-жи де Т. можно было встретить старых знатных почтенных дам,
носивших фамилии Матан, Ноэ, Левис, произносившуюся Леви, Камби,
произносившуюся Камбиз. Старые лица и библейские имена смешивались в голове
мальчика с рассказами из Ветхого завета, которые он учил наизусть. И когда,
собравшись в кружок у потухающего камина, дамы молча восседали в полумраке,
вокруг лампы под зеленым абажуром, лишь изредка роняя торжественные и гневные
слова, маленький Мариус испуганными глазами смотрел на их строгие профили, на
седеющие и седые волосы, на их длинные, сшитые по моде прошлого века платья
самых мрачных цветов. Ему казалось, что перед ним не женщины, а патриархи и
волхвы, не живые существа, а призраки.
К этим призракам присоединялись духовные особы – завсегдатаи
старинного салона и дворяне: маркиз де Сассене, личный секретарь г-жи де Берри;
виконт де Валори, печатавший под псевдонимом Шарля – Антуана написанные одним и
тем же размером оды; князь де Бофремон, еще молодой, но уже седеющий, у
которого была хорошенькая и остроумная жена, чьи туалеты из алого бархата с
золотым шнуром и глубоким декольте рассеивали царивший в салоне мрак; маркиз
Кариолис д'Эспинуз, лучший во Франции знаток «меры учтивости»; граф д'Амандр,
холостяк с добродушным подбородком, и кавалер де Пор де Ги, столп Луврской
библиотеки, именовавшейся «королевским кабинетом». Де Пор де Ги, лысый, раньше
времени состарившийся, рассказывал, что в 1793 году, шестнадцати лет от роду,
он был сослан на каторгу за отказ от присяги и закован в кандалы вместе с
восьмидесятилетним епископом де Мирпуа, также осужденным за отказ от присяги, с
той только разницей, что тот был непокорным священником, а он – непокорным
солдатом. Дело происходило в Тулоне. На их обязанности лежало убирать по ночам
с эшафота головы и тела гильотинированных днем. Взвалив на спину обезглавленные
кровоточащие туловища, они уносили их; на вороте их красных арестантских
халатов образовывалась корка запекшейся крови, к утру высыхавшая, вечером
влажная. В салоне г-жи де Т. можно было услышать много таких страшных
рассказов. В проклятиях Марату здесь докатывались до восхваления Трестальона.
Депутаты из породы «бесподобных», Тибор дю Шалар, Лемаршан де Гомикур и
знаменитый шутник «правой» Корне-Денкур, играли здесь в вист. Бальи де Ферет,
носивший, несмотря на худые ноги, короткие штаны, забегал иногда по дороге к
Талейрану в этот салон. Он был собутыльником графа д'Артуа и, в
противоположность Аристотелю, ходившему на задних лапках перед Кампаспой,
заставлял ползать на четвереньках девицу Гимар, явив векам образец бальи,
отомстившего за философа.
Из духовных лиц здесь бывали аббат Гальма, тот самый,
которому Лароз, сотрудничавший в газете «Фудр», говорил: «Да кому же теперь
меньше пятидесяти? Разве какому-нибудь молокососу-первокурснику!»; аббат
Летурнер, королевский проповедник; аббат Фрейсину, в ту пору еще не граф, не
епископ, не министр, не пэр, носивший старую сутану, на которой вечно не
хватало пуговиц. Сюда приходили аббат Керавенан, кюре церкви Сен-Жермен-де-Пре,
тогдашний папский нунций, высокопреосвещеннейший Макки, архиепископ
Низибийский, впоследствии кардинал, с длинным меланхолическим носом, и аббат
Пальмиэри, носивший звание духовника папы, одного из семи действительных
протонотариев святейшего престола, каноника знаменитой Либерийской базилики,
ходатая по делам святых – postulatore di santi, что указывало на касательство
его к делам канонизации и соответствовало примерно чину докладчика
Государственного совета по райской секции. Наконец салон посещали два
кардинала: де ла Люзерн и де Клермон – Тонер. Кардинал де ла Люзерн был
писателем; несколько лет спустя на его долю выпала честь помещать свои статьи в
Консерваторе рядом со статьями Шатобриана. Тулузский архиепископ де
Клермон-Тонер в летнюю пору частенько приезжал вместо дачи в Париж к своему
племяннику маркизу де Тонеру, занимавшему пост морского и военного министра.
Кардинал де Клермон – Тонер был маленький веселый старичок, из-под подвернутой
сутаны которого виднелись красные чулки. Он избрал себе специальностью
ненависть к Энциклопедии и увлекался бильярдом. Парижане, которым случалось в
описываемое время проходить вечером по улице Принцессы, где находился тогда
особняк Клермон-Тонеров, невольно останавливались, привлеченные стуком шаров и
резким голосом кардинала, кричавшего своему конклависту, преосвященному
Котрету, епископу in раrtibus[87]
Каристскому: «Смотри, аббат, я карамболю». Кардинала де Клермон-Тонера ввел к
г-же де Т. его ближайший друг де Роклор, бывший епископ Санлисский и один из
сорока бессмертных. В Роклоре заслуживали внимания высокий рост и усердное
посещение академии. Через стеклянную дверь залы, смежной с библиотекой, где происходили
тогда заседания французской академии, любопытствующие могли каждый четверг
лицезреть бывшего Санлисского епископа, свеженапудренного, в фиолетовых чулках,
обычно стоявшего спиной к двери, – вероятно для того, чтобы лучше был
виден его поповский воротничок. Хотя святые отцы являлись по большей части столько
же служителями церкви, сколько царедворцами, они накладывали печать сугубой
строгости на салон г-жи де Т., а пять пэров Франции: маркиз де Вибре, маркиз де
Таларю, маркиз д'Эрбувиль, виконт Дамбре и герцог де Валентинуа подчеркивали
его аристократизм. Герцог де Валентинуа, будучи владетельным принцем Монако, то
есть владетельным иностранным принцем, составил себе тем не менее такое высокое
представление о Франции и об ее институте пэрства, что все сводил к последнему.
Ему принадлежат слова: «Римские кардиналы-те же пэры Франции; английские лорды
– те же пэры Франции». Впрочем, поскольку в ту эпоху революция проникала всюду,
тон в этом феодальном салоне, как мы уже сказали, задавал буржуа. В нем царил
Жильнорман.
Тут была эссенция и квинтэссенция парижского реакционного
общества. Тут принимались карантинные меры даже против самых громких
роялистских репутаций. От славы всегда несколько отдает анархией. Попади сюда
Шатобриан, и он бы выглядел здесь «Отцом Дюшеном». Все же кое-кому из
признавших в свое время республику оказывалось снисхождение, и они допускались
в это правоверное общество. Граф Беньо был принят сюда с условием исправиться.
Современные «благородные» салоны совсем не походят на
описываемый нами. Нынешнее Сен – Жерменское предместье заражено вольнодумством.
Теперешние роялисты, не в обиду будь им сказано, – демагоги.
В салоне г-жи де Т., где собиралось избранное общество, под
лоском изощренной учтивости господствовал утонченный и высокомерный тон.
Установившиеся здесь нравы допускали великое множество всяких изысканностей,
которые возникали сами по себе и возрождали доподлинный старый режим, давно
погребенный, но все еще живой. Иные из принятых здесь манер вызывали
недоумение, в особенности манера выражаться. Люди неискушенные легко сочли бы
эти в действительности лишь устаревшие формы речи за провинциализмы. Здесь
широко употреблял лось, например, обращение «госпожа генеральша». Можно было
услышать, хотя и реже, даже «госпожа полковница». Очаровательная г-жа Леон,
вероятно из уважения к памяти герцогинь де Лонгевиль и де Шеврез, предпочитала
это обращение своему княжескому титулу. Маркиза де Креки тоже выражала желание,
чтобы ее называли «госпожой полковницей».
Этот аристократический кружок придумал в интимных беседах с
королем в Тюильри именовать его только в третьем лице: «король», избегая
титулования «ваше величество», как «оскверненного узурпатором».
Здесь судили обо всем – и о делах и о людях. Насмехались над
веком, что освобождало от труда понимать его. Подогревали друг друга
сенсациями, спешили поделиться друг с другом всем слышанным и виденным. Здесь
Мафусаил просвещал Эпименида. Глухой осведомлял слепого. Здесь объявляли не
существовавшим время начиная с Кобленца. Здесь считали, что, подобно тому как
Людовик XVIII достиг милостью божией двадцать пятой годовщины своего
царствования, так и эмигранты милостью закона достигли двадцать пятой своей
весны.
Тут все было в полной гармонии; тут жизнь чуть теплилась во
всем; слова излетали из уст едва уловимым вздохом; газета, отвечавшая вкусам
салона, напоминала папирус. Здесь попадались и молодые люди, но они выглядели
полумертвыми. В прихожей посетителей встречали старенькие лакеи. Господам,
время которых давно миновало, прислуживали такие же древние слуги. Все
производило впечатление чего-то отжившего, но упорно не желающего сходить в
могилу. Охранять, охранение, охранитель – вот примерно весь их лексикон.
«Блюсти за тем, чтобы не запахло чужим духом», – к этому, в сущности,
сводилось все. Взглядам этим почтенных особ было действительно присуще особое
благоухание. Их идеи распространяли запах камфары. Это был мир мумий. Господа
были набальзамированы, из лакеев сделаны чучела.
Почтенная старая маркиза, разорившаяся в эмиграции и
державшая только одну служанку, все еще говорила: «Мои слуги».
Что же собой представляли посетители салона г-жи де Т.? Это
были «ультра».
Быть ультра! Быть может, явления, обозначаемые этим словом,
не исчезли и по сей день, но самое слово потеряло уже всякий смысл. Постараемся
объяснить его.
Быть «ультра» – это значит во всем доходить до крайности.
Это значит во имя трона нападать на королевский скипетр, а во имя алтаря – на
митру; это значит опрокидывать свой собственный воз, брыкаться в собственной
упряжке; это значит возводить хулу на костер за то, что он недостаточно жарок
для еретиков; это значит упрекать идола, что в нем мало идольского; это значит
насмехаться от избытка почтительности; это значит винить папу в недостатке
папизма, короля – в недостатке роялизма, а ночь – в избытке света; это значит
не признавать за алебастром, снегом, лебедем, лилией их белизны; это значит
быть таким горячим защитником, что из защитника превращаешься во врага; так
упорно стоять «за», что это превращается в «против».
Непримиримый дух «ультра» характеризует главным образом
первую фазу Реставрации.
В истории не найдется эпохи, которая походила бы на этот
краткий период, начавшийся в 1814 году и закончившийся около 1820-со
вступлением в министерство г-на де Вилель, исполнителя воли «правой».
Описываемые шесть лет представляют собой неповторимое время – и веселое и
печальное, блестящее и тусклое, как бы освещенное лучами утренней зари, но и
окутанное мраком великих потрясений, все еще заволакивающим горизонт и медленно
погружающимся в прошлое. И среди этого света и тьмы существовал особый мирок,
новый и старый, смешной и грустный, юный и дряхлый, протиравший глаза; ничто
так не напоминает пробуждение от сна, как возвращение на родину. Существовала
группа людей, смотревшая на Францию с раздражением, на что Франция отвечала
иронией. Улицы были полным – полны старыми филинами-маркизами, возвратившимися
из эмиграции аристократами, выходцами с того света, «бывшими людьми», с
изумлением взиравшими на окружающее; славное вельможное дворянство и радовалось
и печалилось, что оно снова во Франции, испытывая упоительное счастье оттого,
что снова видит родину, но и глубокое отчаяние оттого, что не находит здесь
своей старой монархии. Знатные отпрыски крестоносцев оплевывали знать Империи,
то есть военную знать; историческая нация перестала понимать смысл истории;
потомки сподвижников Карла Великого клеймили презрением сподвижников Наполеона.
Как мы уже сказали, мечи скрестились, взаимно нанося оскорбления. Меч Фонтенуа
подвергался насмешкам, как ржавое железо. Меч Маренго внушал отвращение и именовался
солдатской шашкой. Давно прошедшее отрекалось от вчерашнего. Чувство великого и
чувство смешного были утеряны. Нашелся даже человек, назвавший Бонапарта
Скапеном. Этого мира больше нет. Теперь от него, повторяем, ничего не осталось.
Когда мы извлекаем оттуда наугад какую-нибудь фигуру, пытаемся воскресить его в
воображении, он кажется нам таким же чуждым, как мир допотопных времен. Да он и
в самом деле был поглощен потопом. Он исчез в двух революциях. О, как могуч
поток освободительных идей! Как стремительно заливает он все, что надлежит ему
разрушить и похоронить, и как быстро вырывает он глубочайшие пропасти!
Таков облик салонов тех отдаленных и простодушных времен,
когда Мартенвиль считался мудрее Вольтера.
У этих салонов была своя литература и своя политическая
программа. Здесь веровали в Фьеве. Здесь законодательствовал Ажье. Здесь
занимались толкованием сочинений Кольне, публициста и букиниста с набережной
Малаке. Наполеон был здесь только «корсиканским чудовищем». Позднее, в виде
уступки духу времени, в историю вводится маркиз де Буонапарте, генерал-поручик
королевских войск.
Салоны недолго сохраняли неприкосновенную чистоту своих
воззрений. Уже с 1818 года сюда начинают проникать доктринеры, что являлось тревожным
признаком. Доктринеры, будучи роялистами, держались так, словно старались
оправдаться в этом. То, что составляло гордость «ультра», у них вызывало
смущение. Они были умны; они умели молчать; они щеголяли своей в меру
накрахмаленной политической догмой; успех был им обеспечен. Они несколько
злоупотребляли – впрочем, не без пользы для себя – белизной галстуков и
строгостью наглухо застегнутых сюртуков. Ошибка, или несчастье, партии
доктринеров заключалась в том, что они создали поколение юных старцев. Они
становились в позу мудрецов. Они мечтали привить крайнему абсолютизму принципы
ограниченной власти. Либерализму разрушающему они противопоставляли, и порой
чрезвычайно остроумно, либерализм охранительный. От них можно было услышать
такие речи: «Пощада роялизму! Он оказал ряд услуг. Он восстановил традиции,
культ, религию, взаимоуважение. Ему свойственны верность, храбрость,
рыцарственность, любовь, преданность. Сам того не желая, он присовокупил к
новому величию нации вековое величие монархии. Его вина в том, что он не
понимает революции, Империи, нашей славы, свободы, новых идей, нового поколения,
нашего века. Но если он виноват перед нами, то разве мы так уж неповинны перед
ним? Революция, наследниками которой мы являемся, должна уметь понимать все. Нападать
на роялизм – значит грешить против либерализма. Это страшная ошибка, страшное
ослепление! Революционная Франция отказывает в уважении исторической Франции,
иначе говоря, своей матери, иначе говоря, себе самой. После 5 сентября с
дворянством старой монархии стали обращаться так же, как после 8 июля
обращались с дворянством Империи. Они были несправедливы к орлу, мы – к лилии.
Неужели необходимо всегда иметь предмет гонения? Что пользы счищать позолоту с
короны Людовика XIV или сдирать щипок с герба Генриха IV? Мы смеемся над
Вобланом, стиравшим букву „Н“ с Иенского моста. А что собственно он делал? Да
то же, что и мы. Бувин, как и Маренго, принадлежит нам. Лилии, как и буква
„Н“, – наши. Это наше наследство. К чему уменьшать его? От прошлого своей
отчизны так же не следует отрекаться, как и от ее настоящего. Почему не
признать всей своей истории? Почему не любить всей Франции в целом?»
Так доктринеры критиковали и защищали роялизм, вызывая своей
критикой недовольство крайних роялистов, а своей защитой – их ярость.
Выступлениями «ультра» ознаменован первый период
Реставрации; выступление Конгрегации знаменует второй. На смену восторженным
порывам пришла пронырливая ловкость. На этом мы и прервем наш беглый очерк.
В ходе повествования автор этой книги натолкнулся на
любопытное явление современной истории. Он не мог оставить его без внимания и
не запечатлеть мимоходом некоторые своеобразные черты этого ныне уже никому
неведомого общества. Однако он долго не задерживается на этом предмете и рисует
его без чувства горечи и без желания посмеяться. Его связывают с этим прошлым
дорогие, милые ему воспоминания, ибо они имеют отношение к его матери. Впрочем,
надо признаться, что этот мирок не лишен был своего рода величия. Он может
вызвать улыбку, но его нельзя ни презирать, ни ненавидеть. Это-Франция минувших
дней.
Как все дети, Мариус Понмерси кое-чему учился. Выйдя из-под
опеки тетушки Жильнорман, он был отдан дедом на попечение весьма достойного
наставника чистейшей, классической ограниченности. Эта юная, едва начавшая
раскрываться душа из рук ханжи попала в руки педанта. Мариус провел несколько
лет в коллеже, а затем поступил на юридический факультет. Он был роялист,
фанатик и человек строгих правил. Деда он недолюбливал, его оскорбляли
игривость и цинизм старика, а об отце мрачно молчал.
В общем это был юноша пылкий, но сдержанный, благородный,
великодушный, гордый, религиозный, экзальтированный, правдивый до жестокости,
целомудренный до дикости.
|


